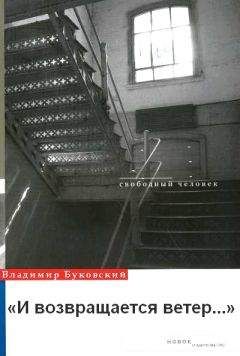Со следующего дня потянулись регулярные допросы в КГБ. Все мы, допрашиваемые в качестве свидетелей, — Галансков, Хаустов, я и еще человек двадцать — встречались после допросов, обсуждали ситуацию, советовались, как лучше отвечать. По существу, никто из нас ничего не добавил к показаниям первого дня, несмотря ни на какие ухищрения следователей.
Тут впервые узнал я о правовом положении свидетеля. Целую лекцию на эту тему прочитал нам Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, незадолго до того освободившийся из Ленинградской спецбольницы. Он пришел как-то раз на Маяковку, послушал, посмотрел. При первом знакомстве он не произвел на меня впечатления: чудаковатый человек, в ободранной меховой шапке, только что из психбольницы да еще весь вечер толковал про уважение к законам. Лекция его, однако, принесла практическую пользу, и никто из нас не дал себя запугать и не наболтал лишнего.
А день открытия съезда мы им все-таки решили испортить. 9 октября Маяк дал последний бой — вечером мы провели чтения по всей Москве. Не только у памятника Маяковскому, но и у памятника Пушкину, у других памятников Москвы и даже у Библиотеки имени Ленина. Последнее место мы считали самым важным, а остальные — скорее отвлекающим маневром. Вечером из кремлевских ворот стали выходить подвыпившие в кулуарах делегаты XXII съезда. Видя толпу у Библиотеки, они подходили, слушали стихи, аплодировали, а когда нас попытались разогнать, даже вступились за нас. Один такой делегат, сильно под мухой, отвел нескольких из нас в сторону и горячо благодарил, уверяя, что мы делаем очень большое и нужное сейчас дело. Конечно, мы тут же стали жаловаться делегатам на притеснения, разгоны, избиения и прочие беззакония со стороны КГБ. Некоторые из них обещали похлопотать, чтобы нас не трогали. Не думаю, однако, чтобы они что-нибудь сделали, так как это оказалось последним нашим выступлением. Чтения были официально запрещены, и всякий, кто осмелился бы их продолжать, оказался бы за решеткой.
Вновь партийная печать обрушила на нас потоки клеветы. Обо мне было сказано, конечно же, что я «недоучившийся студент» и «свихнулся от благ, предоставленных отцом». Откуда им было знать о наших реальных отношениях? Просто корреспондент углядел, что мой отец — член Союза писателей, а остальное дофантазировал. Это имело неожиданный эффект: отцу моему стало вдруг неловко за свою неприязнь ко мне, и он с некоторым смущением купил мне костюм — кажется, первый за мою жизнь. Как говорится, нет худа без добра.
Судьба наших арестованных ребят решилась через четыре месяца самым жестоким образом. Горбатый Илюша Бакштейн был осужден на пять лет, а Кузнецов и Осипов — на семь лет лагерей каждый. Конечно же, ни о каком этом фантастическом покушении речи больше не шло. Судили их за «антисоветскую агитацию и пропаганду», то есть за Маяковку, за чтения и диспуты, за сборники стихов. Московский суд еще пытался обвинять их в создании антисоветской организации, но и это потом отпало. Не смогли следователи правдоподобно придумать эту организацию. Даже названия не позаботились выдумать. Но мои так называемые «Тезисы» инкриминировались Эдику как один из пунктов обвинения — «хранение и распространение антисоветской литературы».
Суд был, разумеется, закрытый. Даже на зачтение приговора пытались никого не пустить. Однако наш заядлый законник Алик Вольпин с раскрытым кодексом в руках доказал охране, что приговор во всех случаях должен объявляться открыто. Алик был первым человеком в нашей жизни, всерьез говорившим о советских законах. Но мы всё посмеивались над ним.
— Ты, действительно, Алик, чокнутый, — говорили мы ему. — Ну, подумай, о чем ты говоришь? Какие же законы могут быть в этой стране? Кто о них думает?
— То-то и плохо, что никто не думает, — отвечал обычно Алик, нимало не смущаясь наших насмешек.
Однако на конвойных солдат Алик со своим кодексом произвел неожиданное впечатление, и ребят пустили послушать приговор.
— Вот видите, — ликовал Вольпин, — мы сами виноваты, что не требуем выполнения законов.
Но все только плечами пожимали. Знали бы мы тогда, что таким вот нелепым образом, со смешного Алика Вольпина с кодексом в руках, словно волшебной палочкой растворившего двери суда, начинается наше гражданско-правовое движение, движение за права человека в Советском Союзе.
Кончался поэтический этап в медленном пробуждении нашего общества. Поэтов и чтецов всерьез увозили за их стихи в самый настоящий концлагерь. Не солдат, не заговорщиков, а поэтов.
Нет, не нам разряжать пистолеты.
Но для самых решительных дат
Создавала эпоха поэтов.
А они создавали солдат.
Эпоха-то оказалась такая, что и поэтов не смогла стерпеть. Им-то и пришлось быть солдатами.
Я не пошел на суд, хоть и был в списке вызванных свидетелей. Получалась какая-то постыдная для меня нелепость: Эдик, который лишь взял почитать злополучные «Тезисы», был подсудимым — я же, написавший их и давший почитать Эдику, оказался только свидетелем. В такой ситуации стыдно было оставаться на свободе да еще и прийти в суд. Однако меня вовсе не забыли, и переживал я напрасно. Как рассказали ребята, после приговора было оглашено частное определение суда, в котором указывалось, что против меня тоже следует возбудить дело.
Мы по-прежнему часто виделись, но на площадь уже не ходили. Каждый ждал расправы, и эти встречи не были веселыми, как раньше. Нескольких ребят упрятали уже в сумасшедшие дома, и оставалось только ждать своей очереди. Мне нестерпимо было это ожидание. Бродя вечерами по Москве, я пытался придумать, что же такое еще сделать. Все равно арест был неминуем, терять нечего.
Больше всего мучило меня бессилие. Ровным счетом ничего не мог я сделать этой мрази за все их расправы и издевательства, и это было особенно нестерпимо. Ну, хоть что-нибудь, хоть плевок! Одно только воспоминание о том, как меня били, не давало мне спать. А институт, а разогнанная Маяковка, горбатый Илюша в тюрьме… Со всех же сторон по-прежнему неслась наглая ложь, словно ничего не случилось. И это доводило меня до исступления.
Наконец, не придумав ничего лучшего, я организовал выставку картин двух своих знакомых художников-неконформистов на частной квартире. Выставка имела успех, приходило много народа. На какое-то время повеяло старыми временами, и получилась своего рода демонстрация против партийного руководства в искусстве. Однако и КГБ не дремал: трое из них пришли на выставку, долго молча разглядывали картины и так же молча ушли. Затем вызвали хозяина квартиры, пригрозили лишить работы, отнять квартиру и чуть ли не в тюрьму посадить. Выставка продержалась больше десяти дней. Тут уж стал я ждать ареста со дня на день, КГБ ходил за мной по пятам, нагло, почти не скрываясь.