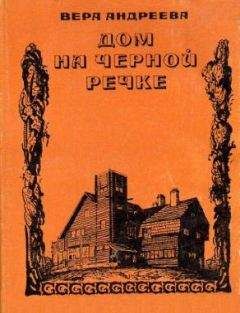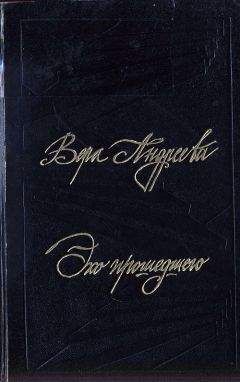А утром на следующий день светило безмятежно солнце, и омытый вчерашним дождем сад сверкал радостью и полнотой жизни. На дороге перед воротами стояла телега, нагруженная нашими чемоданами и свертками, озабоченная и заплаканная тетя Наташа, размахивая зонтиком, загоняла нас садиться, а старушка Лиза, которая жила в домике через дорогу, говорила нам дрожащим голосом: «Уезжаете, детки? Бог знает, приедете ли еще когда-нибудь? А может быть, через много лет, когда будете все давно замужем и женаты, приедете со своими детьми, чтобы показать им, где прошло ваше детство…»
Как это — прошло наше детство? Неужели наше детство прошло? Как странно говорит эта старуха — чтобы я приехала сюда со своими детьми? Какая нелепость! Все это я думаю, а в то же время что-то холодное коснулось моего сердца, и я расширенными глазами посмотрела вокруг. И с предельной ясностью я вдруг поняла, что старуха права, детство в самом деле кончилось, и никогда я уже не увижу наш дом, наш сад, нашу дорогую Черную речку. Вдруг померкло сияющее солнце, замолкли веселые голоса птиц, и только тополя зашумели вершинами, как будто бы их тоже коснулся холодный ветер расставания. А телега уже тронулась, и вот в последний раз наш сад проплывает мимо меня. Остановившимися глазами я вижу за березами красную крышу большого дома — он смотрит мне в глаза, и мне чудится, что он улыбается, прощаясь со мной. Он улыбается доброй и ласковой улыбкой, в которой нет горечи, обиды и слез, и ласково машут ветви старой березы, что стоит в конце сада у самого забора, и ласково кричит стая ворон над крышей дома, прощаясь со мной. Почему же тяжелое предчувствие сдавило мне грудь, будто отдернулась завеса и на короткий миг предстал передо мной длинный ряд дней, уходящих в темную даль будущего, — дней печальных и радостных, серых и ярких, — дней моей жизни, которые все мне было суждено прожить вдали от родины.
А рядом сидел Тин — маленький и худенький мальчик, мой дорогой братик, мой двойник, который в мыслях моих неотделимо присутствует всегда, без которого я не могу представить себе жизнь. И он тоже побледнел, и глаза его, расширившись, с каким-то ужасом смотрят на дом, а длинная верхняя губка дрожит. И мы видим: в последний раз мелькает освещенный солнцем дом, и вдруг черные ели в саду Гонэ разом застилают его, точно перечеркивают черной тенью солнечный образ нашего детства.
Много лет спустя, в 1936 году, мой брат Савва в составе труппы русского балета выехал из Парижа в турне по Скандинавским странам. Балет посетил также Финляндию и дал в Гельсингфорсе несколько представлений. Брат решил воспользоваться счастливым случаем и в свободный от спектакля день отпросился с репетиции и поехал на Черную речку.
Вот как он описывает в письме к маме свою поездку.
«…Волнение было велико. И самый внезапный отъезд, и спешка, и ночное время, и абсолютная неподготовленность. Но времени не было, это был единственный случай. Расскажу тебе подробно. Слушай.
Выбежав из театра, вскочил в такси и погнал на вокзал. Оставалось пятнадцать минут до отхода поезда. Ночь была холодная, морозная, светил снежок. На вокзале приобрел билет третьего класса и спальное место. На белом перроне светились окна моего поезда, поднимался белый пар. Свистнул паровоз, и я покатил. Голодный и взволнованный. Не верилось, что я еду на Черную речку, к нам домой. Вообще вчерашний день для меня как сон приснившийся. Сначала стоял у окна и смотрел, как неслись черные леса в белом снегу, клубы пара, белая снежная насыпь. Сон слипал глаза, прошел в свое купе, разделся и проспал сладко всю ночь. Несся, покачиваясь, поезд, несся в родные края.
Разбудил меня возглас кондуктора: „Виипури!“ Вскочил, оделся. Было семь часов утра. На перроне было холодно. Еле светало. Выпил кофе и опять сел в поезд, на котором было написано — „Перкиярви“. Спать уже не хотелось. Сидел у окна и смотрел. Вставало из-за нежных облаков бледное, желтое солнце. Небо было голубое, и были чудные снежные поля, леса, заметенные снегом убогие избы. Началось все такое родное и близкое.
У изб стояли сани с финскими лошадками. Был сильный мороз, и все было заиндевевшее, и отовсюду шел пар — из ноздрей лошадок, изо ртов промерзших финнов. Начались знакомые названия: Мустамяки, Райвола…
Но здесь произошла немного неприятная история. Финский жандарм в меховой шапке, с револьвером у пояса, спросил у меня паспорт. Паспорта со мной не было! Я кое-как объяснил, в чем дело, — он от меня не отставал. На Тюресевя мне не дали слезть, а повезли в Териоки. Там меня передали в руки другого жандарма — молоденького, румяного, с голубыми раскосыми глазами. Он повел меня в полицию. Вокзал Териоки я узнал, но к волнующим впечатлениям от родных мест примешивалось не совсем приятное волнение от сознания ареста. Было очень холодно — 12° мороза! Все было белое от снега. Под ногами снег скрипел и визжал, как стеклянный. Нос, щеки и уши щипало здорово.
Мой жандарм шел быстро в своих высоких сапогах — он мне нравился, особенно его голубые глаза и высокие сапоги. В полиции я сидел час. И наконец мне сказали, что я не смогу ехать в Ваммельсуу. Я чуть не плакал. Еще раз они позвонили начальнику сыскной полиции. И меня повели к нему. Начальник чудно говорил по-русски, конечно, знал Андреева и прочее и мило отпустил меня, сказал, чтобы я обязательно поехал назад с девятичасовым поездом, иначе меня еще раз арестуют.
Сердечно его поблагодарив, я выскочил на морозный снег. Светило солнце, и все было так замечательно. Денег у меня было в обрез, так что я решил идти пешком. Мысль о том, куда я иду, давала мне силы, а морозный солнечный день и дарованная свобода наполняли душу радостью.
Было все так чудно и все как во сне. Я узнавал места — высокую белую церковь, магазины. На одном виднелась русская надпись: „Фрукты, анчоусы, вядчина!“ Скрипел утоптанный снежок, проносились сани-розвальни с типичными, в меховых шапках и валенках, финнами с сосульками на усах. Звенели колокольчики на дугах мохнатых лошаденок, с седыми от мороза мордами и такими же животами. Все это было до того близко, до того знакомо. И каждый след на снегу, и каменноподобный навоз лошадей, и проезжающие мимо мальчишки на… подкукелках и лыжах. Я шел и непрерывно, всеми фибрами своего существа, впитывал окружающее. Зашел в „кахфилу“ — кофейную. Заказал „лейпэ-войтокахфия“, и мне всего дали. Дали мне черный ржаной хлеб с маслом и кофе. Выпил я у окошка с видом на белую дорогу и на замерзший колодец с… журавлем! Закуска дала мне огромный запас энергии. Я весело пустился в путь!
А путь мне предстоял немалый. Я главным образом дрейфил мороза — хватит ли меня на двенадцать километров, не закоченеют ли у меня руки и ноги. И вот началась териокская дорога через леса и леса. Я шел быстро и весело. Светило солнце, правда находившееся у самого горизонта, где-то на дереве стучал дятел. Обгоняли меня сани с колокольцами. Кивали финны: „Хювяпяйва!“ — „Пяйва, пяйва!“