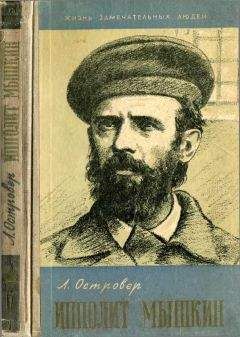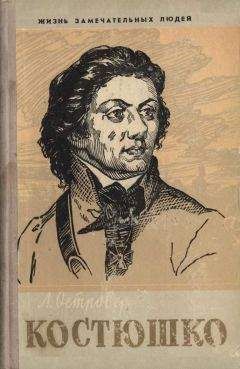В дальнем углу камеры сидит за столом человек, повернувшись спиной к двери. На голове — шапка с опущенными наушниками, на плечах — халат. Перед ним — шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Видно, что человек задумался над каким-то ходом. Против этого «шахматиста» сидит живой партнер, тоже углубленный в игру, сидит лицом к двери. Подле стоят два товарища, наблюдающие за игрой. Ни одному казаку и в голову не придет, что за шахматной доской сидит чучело!
Смеялись, дурачились и весело снаряжали товарищей в дорогу. Войнаральский принес четыре рубашки и заставил Мышкина и Хрущева тут же надеть их одну поверх другой.
— Ехать вам, други мои, не одну неделю, а прачечных в тайге не построили.
Попов принес несколько носовых платков.
— В тайге сыро, — сказал он, — еще, чего доброго, насморк схватите.
Костюрин, бывший сосед Мышкина по Петропавловской крепости, положил в карман Мышкина маленький томик Некрасова:
— Простите, Ипполит, вашего Маркса у меня нет, удовлетворитесь Некрасовым. На привалах пригодится.
А молоденький студент Чернавский робко протянул Мышкину небольшой медальон и, зардевшись, тихо сказал…
— Пожалуйста, Ипполит Никитич, примите… на счастье… Это мне… мать подарила.
Мышкин обнял юношу, поцеловал его в губы.
— Спасибо, дорогой!
Поступок Чернавского всех растрогал.
— Однако к делу! — нарочито сухо, чтобы скрыть волнение, заметил Войнаральский. — Уже поздно. Надо, други, подумать о том, как запутать караульных. Ведь в мастерскую и из мастерской пускают по счету.
Хрущев весело ответил:
— Эка невидаль! По счету принимают! А мы их счета путать не будем!
— А как ты в мастерскую попадешь? — удивился Мышкин. — По воздуху, что ли?
— Зачем по воздуху? Мы с тобой не великаны. Посмотри! — Он указал на кровать. — Легко уместимся в ящиках!
— Вон ты какой! — обрадовался Мышкин. — С тобой не пропадешь!
Затея Хрущева была проста и «гениальна», как и план Мышкина. В деревянных кроватях во всю их длину помещались внизу меж ножек деревянные же ящики для вещей.
Предложение Хрущева одобрили и остальные товарищи. Войнаральский тут же вытащил два ящика.
— Вы готовы? — спросил он.
— Готовы!
— Прощайтесь, други, и полезайте в ящики.
Прощание получилось грустное: рукопожатия были крепкие, а в глазах у всех стояли слезы.
И когда Мышкин уже лежал в ящике, к нему склонился Петр Алексеев:
— Ипполит, послушайся меня. Доберешься до Швейцарии, сиди там, не езди в Россию. С кружками в России управятся и без тебя, а ты теорией занимайся. Запутались мы в трех соснах. Нужно ясное слово. А ты, Ипполит, можешь это ясное слово сказать. — Он пожал обе руки Мышкина и выпрямился. — А теперь, товарищи, понесем их!
Хлопнули крышки.
Мышкина и Хрущева понесли в мастерские.
— Чего кровати тащите? — услышал Мышкин окрик часового.
— В починку несем!
Ящик покачивается. Пахнет смолистой сосной.
«Как в гробу… Как в гробу», — пришла мысль, но эта мысль не огорчала, а, наоборот, веселила Мышкина.
Вдруг он услышал грохот и лязг железа, визг пил и рубанков, и из хаоса звуков выделялся залихватский голос Рогачева:
Куплю Дуне новый сарафан…
В мастерской, выбравшись из ящиков, Мышкин и Хрущев тотчас же ушли за печку и улеглись на поделочных досках.
— С приездом, Ипполит Никитич, — смеясь, проговорил Хрущев.
— Поезд еще не отошел, а ты уже «с приездом», — в тон ему ответил Мышкин.
— Лиха беда начало, а там уж будет от нас зависеть.
— И от случая, — нахмурился Мышкин и замолк.
Постепенно жизнь замирала в мастерской. То один, то другой забегал за печку, наспех пожимал руки: «Ни пуха ни пера». Попрощался и Рогачев. Загремел железный болт, прозвенела пружина замка.
Стало совсем тихо, лишь изредка доносились мерные шаги часового.
Мышкин и Хрущев лежали затаив дыхание: ждали темноты. Шепотком обменивались короткими фразами: они изучали маршрут часового.
— До пáлей он делает тридцать шагов…
— И пятьдесят шагов вдоль пáлeй…
— Может, через окно, а? — предложил Хрущев.
— С крыши вернее. Часовой видит только переднюю стену, когда идет вправо или влево. Но задней стены, где нет окон, не видит. Вылезем через потолок, ляжем на крышу, скатимся к задней стене и… в тайгу.
Солнце ушло за горизонт, потухли последние багряные отсветы на полу. В мастерскую влилась тьма. Четче стали звуки.
Мышкину привиделась камера, чучело на кровати, чучело за шахматным столиком… Там идет сейчас проверка! Сошло ли все благополучно? Обманулись ли казаки? Или уже загудела тюрьма? Бегут за смотрителем? Снаряжают поиск?
С громким говором и шутками вышли тюремщики на двор. Загремела цепь калитки.
— Все благополучно, — радостно прошептал Хрущев. — Надзиратели идут домой.
Мышкин вздохнул долгим прерывистым вздохом.
Даже в минуты величайшего напряжения Мышкин не мог отделаться от какой-то тяжести — она давила на сердце и угнетала. Мышкин рвался на свободу, он высматривал щель, через которую можно было бы вырваться из тюрьмы, однако прошлые неудачи, словно тень, волочились за ним. Неудача под Вилюйском, неудачный подкоп в Ново-Белгородской тюрьме — все это жило в подсознании и всплывало всякий раз, когда Мышкин обдумывал план нового побега. Он верил в себя, но эта вера уже была затуманена страхом перед всесильным случаем.
И сейчас, слыша веселую болтовню надзирателей, он не мог отделаться от тягостной мысли: сойдет ли все благополучно?
Шаги затихли. Часовой ушел за пали по другую сторону тюрьмы.
— Пора, — шепнул он Хрущеву.
Мышкин осторожно вынул пропиленный в потолке четырехугольник и высунул голову. Пахнуло в лицо ночной свежестью, блеснули звезды.
Они вылезли на крышу, распластались на ней и замерли.
Шаги часового приближались.
Вот часовой прошел между мастерской и палями. Идет обычным, мерным шагом: ничего подозрительного не обнаружил.
Шаги удалились.
— Спускайся.
Хрущев скатился с крыши. Он уже на земле, протягивает руки, подхватывает падающего Мышкина.
Они поползли, как ящерицы, вжимаясь в землю всем телом.
Сердце билось сильней, дыхания не хватало, а они ползли и ползли…
Мышкин шел впереди. Он смотрел на подернутые золотом сосны, на разлапистые ели, прятавшие в пазах слитки зимнего серебра, смотрел на березы, что опускают к земле свои длинные ветви, точно собираются переходить на другое место, и ловил себя на том, что все это не вызывает в нем того трепетного волнения, которое охватывало его в тюрьме, когда он мысленно рисовал себе первые минуты на воле.