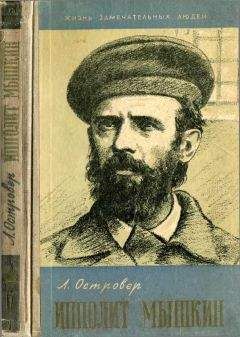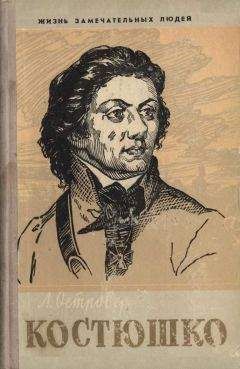— Верно, Николай. Именно мы, а не наши внуки или правнуки должны разрушить эту стену. Только… Вот ты, я и все наши народники, за что мы воевали? Вспомнишь и диву даешься: какая была у нас цель? «Все для народа и все через народ». Что это? Акафист. Всё! Значит, и обманы Нечаева, и бомбы террористов — все для народа! Вот мой друг Кравчинский заколол на улице кинжалом самого главного жандарма Мезенцова. Какую пользу принес он этим народу? Вместо Мезенцова назначили другого жандарма. Или такая чистая душа, как Соня Перовская, или такой умнейший человек, как Желябов, за что они погибли? Какую пользу принесли они народу своей смертью? Цифру переменили: вместо Александр два появился Александр три… Ты не подумай, Коля, что я порицаю Перовскую или Желябова. Я преклоняюсь перед ними. Но… после цареубийства революционная волна пошла на убыль. Видишь, Коля, акафист не помог, не помогли и бомбы. Знаешь, что мне сказал на прощание Петр Алексеев? «Народ ждет ясного слова». А знаешь, Коля, какого ясного слова? Партия! Вот слово, которое нужно Петру Алексееву, нужно тебе, мне. Партия с такой программой, за которую любой рабочий, любой мужик-немироед, любой честный интеллигент пошли бы на плаху…
— Ну вот и договорились, — просто, буднично сказал Хрущев. — Давай не задержимся в Америке, скорее вернемся в Россию. Ты будешь партию собирать, а я, вот тебе моя голова, сотни рабочих к партии привлеку.
И Петр Алексеев и Ипполит Мышкин чувствовали потребность в такой партии, но, увы, «ясного слова» ни тот, ни другой сказать еще не могли, «…в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее- стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией…»[3]
В Благовещенске беглецы пересели на пароход.
Все сходило гладко, никто ими не интересовался, но в сердце Мышкина притаилась тревога. Он понимал, что в тюрьме уже давно их хватились, что уже полетели во все стороны розыскные листы, что решающим является теперь, кто раньше дойдет до Владивостока: они или листы.
Но своими сомнениями Мышкин не делился с Николаем: ему не хотелось тревожить покой этого чудесного парня, который уже видел себя в Москве, в гуще рабочей массы. Плыли меж берегов, поросших лесом и густым острецом, проплывали мимо богатых деревень с каменными церквами, проплывали мимо одиноких хижин, проплывали мимо плотов, на которых бегали голые детишки.
Пароход хлопал плицами по воде, часто гудел — низко, тоскливо, словно жаловался на что-то.
Миновали Хабаровск. Пароход поднялся, вверх по Уссури.
Мышкин беседовал с попутчиками: он выпытывал, как живут, чем зарабатывают на хлеб.
Хрущев не принимал участия в этих беседах — прислушивался и восхищался умением своего товарища незаметно переводить любой разговор на «высокую политику».
Однажды он спросил Мышкина:
— К чему ты такие беседы ведешь?
— Какие такие?
— Все вглубь да вглубь. Будто что-то проверяешь.
Мышкин похлопал Хрущева по колену:
— Молодец, Коля. Умеешь слушать и умеешь делать выводы. Да, я проверяю, что ждет завтра тебя, меня и всех наших товарищей.
— Это что? — удивился Хрущев. — Вроде на кофейной гуще гадаешь?
— Вроде, — улыбнулся Мышкин. — Только не на кофейной гуще. Ты вот — деревенский, у вас в деревне, поди, астрономов не было, а погоду на завтрашний день мужики безошибочно угадывали. Посмотрят, как солнце садится, высоко или низко порхают ласточки на закате, и заявят: «Завтра ведро», или: «Завтра дождь». И в большой политике можно по мелочам угадывать погоду на завтра. Можно было предвидеть реформы шестьдесят первого года? Можно было. По каким приметам? В деревнях бунты, в городах волнения, на заводах брожение. Тут не надо было быть астрономом, чтобы предсказать бурю. А любое правительство бури боится и… отпускает гайку. Облегчение дает народу. Надолго? Нет, Коля, не надолго. Уляжется буря, правительство сейчас же гайку обратно. В шестьдесят первом отпустили, а уже в шестьдесят четвертом снова завинтили. Надолго? Нет, Коля. К концу семидесятых годов опять волнения в деревнях, опять студенческие беспорядки, стачки на заводах. За эти годы, Николай, прибавилось еще и кое-что новое: в Одессе и Петербурге появились рабочие союзы; рабочие вместе со студентами устроили манифестацию перед Казанским собором; рабочие послали в Париж адрес в связи с празднованием годовщины Парижской коммуны; два больших политических процесса: 50-ти и 193-х… Опять поднялась революционная волна, опять, значит, приближается буря. Что делает правительство? То же самое, что сделало в шестьдесят первом году: отпускает гайку, обманывает народ посулами. Прошла гроза — опять аресты, тюрьмы, каторжные приговоры. Надолго? Вот это, Коля, я и проверяю. Проверяю, идет ли третья волна. И знай, Николай, если третья волна подымется, то уж никакие лисицы Лорис-Меликовы не спасут царизм: грянет революция!
— И к какому выводу ты пришел? — сдержанно спросил Хрущев. — На что указывают приметы? На ведро или дождь?
— Не вижу третьей волны. — И, сказав это, Ипполит Никитич медленным шагом направился на нос парохода.
Растительность на берегах стала богаче, красочнее. Среди садов мелькали белые куртки корейцев.
Но все, что видел Мышкин, просеивалось в его сознании, как песок сквозь сито. Чем ближе к Владивостоку, тем гуще становилась тень от прошлых неудач. Тревожила и история со станичным атаманом: он узнает нас по приметам розыскного листа и направит поиск во Владивосток!
И Мышкин решил сойти с парохода в Раздольной, верст шестьдесят не доезжая Владивостока.
— Лишняя осторожность не помешает, — согласился Хрущев, не понимая, что для них это не «лишняя осторожность», а единственный путь к спасению.
В Раздольной они наняли лошадей и поздно вечером приехали во Владивосток.
Остановились в плохоньком трактире, заночевали, а на другой день, позавтракав, пошли к Золотому Рогу.
На рейде много кораблей. Флаги — разноцветные, с крестами и с полосами. На берегу толчея: грузят на корабли, выгружают с кораблей, возят тюки из города, отвозят тюки в город. Грохочут цепи, гудят гудки, скрежещут лебедки. Около кабаков шумят пьяные матросы; китайцы стоят кучками и многозначительно молчат. Таможенные стражники и городовые шныряют во все стороны — прислушиваются, присматриваются.
Разговорившись с пожилым матросом, Мышкин узнал, что завтра в полдень уходит в Америку японский грузовой пароход.