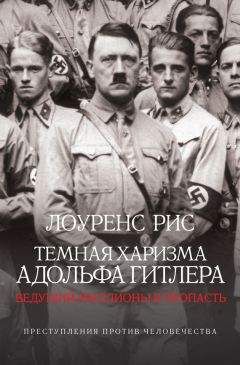Однако в военном разгроме Польши, на который Германии понадобилось всего несколько недель, нет ничего удивительного. Хоть Варшава и пала только 28 сентября, судьба Польши стала очевидной еще за 11 дней до этого, когда Красная Армия, после консультации с немцами, вошла в Восточную Польшу, чтобы успеть захватить свою долю польской территории. Оказавшись между Гитлером и Сталиным, которые в соответствии с секретным протоколом к советско-германскому договору о ненападении сообща принимали участие в расчленении Польши, поляки не имели никаких шансов выстоять.
Однако если военные действия носили откровенный характер, то о политике нацистов на землях оккупированной Польши этого сказать нельзя. Такой немецкий генерал, как Йоханнес Бласковиц, во время допроса в 1947 году все еще сохранял те же чувства, которые он испытывал во время польской кампании, что «война, которая должна была нивелировать политические и экономические потери, последовавшие за созданием Данцигского коридора, и уменьшить угрозу, которой подвергалась изолированная от Германии Восточная Пруссия, окруженная Польшей и Литвой, считалась священным долгом, хоть и печальной необходимостью»‹2›. Фактически он заявлял, что сражался за то, чтобы восстановить справедливость, «растоптанную Версальским договором».
Война за такие цели пользовалась искренней поддержкой этнических немцев, которые в конце Первой мировой войны остались проживать на землях, что поколениями принадлежали немцам, а по итогам войны отошли Польше. «Для нас, тех, кто там жил, Версальский договор оказался нелегким испытанием. Он означал, что мы фактически были отрезаны от рейха», — рассказывает Карл Бликер-Кользат, происходивший из видной немецкой семьи, проживавшей на территории Западной Польши. Он надеялся, что Гитлер создаст новую Германию, в состав которой вольются все этнические немцы. «Когда по радио шли прямые трансляции выступлений Гитлера, все бросали свои дела и внимали его словам. Слушая его речи, мы верили, что он творит чудо; и мы считали, что он вознесет рейх к новым высотам, и были полны восторга от его достижений…Все были завороженные, пока не заглянешь, что творится за кулисами — а простые люди обычно за кулисы не заглядывают — вот и думаешь, бог ты мой, этот человек действительно чего-то добивается — вот это настоящий немец»‹3›.
Таким образом, для немцев, таких как Бласковиц, Кользат, и миллионов других это была не «идеологическая» война, а часть обещания Гитлера вернуть немецкие земли и честь после всех унижений Версаля. Поскольку все они пребывали под воздействием харизмы Гитлера, их поддержка во многом строилась на общности цели. Однако вскоре стало понятно, что они ошибались. Это была отнюдь не обычная война, направленная на возврат утерянных территорий. По словам профессора Мэри Фулбрук, которая специально занималась изучением этого исторического периода: «Вторжение в Польшу в сентябре 1939 года уже в самые первые недели войны сопровождалось массовыми зверствами по отношению к гражданскому населению, к еврейским женщинам, детям и старикам… Только в первую неделю войны в Восточной Верхней Силезии уже сжигались синагоги с людьми в синагогах. Кровавым расправам подверглись мужчины, женщины, дети, старики во всех домах вокруг синагоги в Бендзине (8 сентября 1939-го). Это было массовое зверство… речь идет о сотнях мирных граждан, которых сожгли заживо или пристрелили, когда они пытались бежать или прыгали в реку, чтобы потушить огонь, — и тогда в них стреляли, стоило им только высунуть из воды голову, чтобы глотнуть воздуха»‹4›. Хотя подобные действия и уступали в своих масштабах массовым убийствам, которыми сопровождалось немецкое вторжение в Советский Союз летом 1941 года, они, по словам Фулбрук, были «тем не менее проявлениями насилия, которые не являются нормальными приемами ведения войны, и не похожи отчасти на те злодеяния, которые наблюдались во время Первой мировой войны, где встречались случаи жестокости, которым находилось некое оправдание с военной точки зрения. Сейчас насилие было проявлением расовой ненависти».
Немецкие солдаты, такие как Вильгельм Мозес, служивший в транспортном подразделении вермахта, увиденным были потрясены. Он стал свидетелем того, как солдаты дивизии СС «Германия» повесили семерых или восьмерых поляков прямо на городской площади под музыку духового оркестра. От этого и других ужасов, которые он видел, он постоянно испытывал чувство стыда. «Мне было стыдно за все…я больше не чувствовал себя немцем…я дошел до того, что стал думать: „Если бы в меня попала пуля, то мне не пришлось бы стыдиться, что я немец, потом, после войны“»‹5›.
В следующем, 1940 году Карл Бликер-Кользат тоже пережил событие, которое открыло ему глаза на истинную природу нацистской оккупации Польши: «Как-то в воскресенье мы сидели на балконе и завтракали. Вдруг во двор въехала телега… Я взглянул вниз, увидел лошадей и узнал крестьянина… Мама сказала мне: „Побеги, спроси, что ему нужно“. Я выбежал во двор и подошел к телеге. Рядом с крестьянином-поляком сидел его работник, которого я тоже знал в лицо. А рядом сидел еще один человек, которого я не знал. Это был молодой парень. Я на него взглянул, а он разговаривает сам с собой. Он был как будто чем-то потрясен, ошарашен, и все время бубнил себе под нос.
Я подошел еще чуть ближе и заметил, что у него связаны ноги. А он бубнил себе под нос: „Я хорошо работать, умею ездить на лошадь“. Я спросил крестьянина, кто это. Он ответил: „Это — еврей“.
Я побежал назад в дом. Мне казалось, что это важно, потому, что я раньше никогда не видел еврея, а мама сказала: „Пойди вниз, скажи кухарке, пусть даст ему чего-нибудь поесть“. Я пошел вниз, нашел кухарку. Она сказала: „У меня почти ничего не осталось, только вот это“ — и дала мне голубую кастрюльку с ручкой с остатками молочного супа — кисловатый суп с кусочками картошки.
Мне пришлось рассказать кухарке, для кого это, а потом минутку подождать, пока еда разогреется. Выходя из дому через боковую дверь, я услышал наверху голоса. Я оглянулся. На лестничной площадке наверху стояла моя бабушка, а внизу — двое полицейских. Они спросили: „Где еврей?“ На что бабушка ответила: „Мой внук пошел отнести ему чего-нибудь поесть“. Тогда один полицейский взял в руку дубинку и сказал: „Сначала он отведает вот этого. Потом мы ему еще добавим, но для начала пусть попробует этого“. Тут моя бабушка с вызовом уперла руки в боки и говорит: „Скажите, неужели вам совсем не стыдно?“ Полицейский только пожал плечами и сказал: „Еще чего, это же еврей!“ Потом они этого еврея увели. Наверное, его в тот же день и повесили, я не знаю».
Семья Бликер-Кользат пыталась как-то понять ужасные вещи, которым стала свидетелем в Польше, — происходившие под руководством человека, которого они считали «настоящим немцем». Они пытались убедить себя, что поляки, терпящие страдания от рук оккупационных войск, наверняка в чем-то провинились. Не мог же человек, от которого они так ждали помощи и спасения, организовывать убийства ни в чем не повинных людей? Как говорит Кользат: «Все то и дело повторяли: „Боже праведный, великий Адольф Гитлер наверняка ничего не знает о том, что здесь творят, — он бы этого не позволил!“ Нам было очень стыдно за поведение некоторых немцев, стыдно за то, как они ведут себя на улице, как чувствуют себя хозяевами и представителями высшей расы, как они кичатся своей формой, как всячески дают понять, что поляки — люди второго сорта. От всего этого нам было очень стыдно, это нас угнетало. Мы над ними, правда, смеялись, но мы их не обижали, мы просто дразнили их за глаза, говорили что-нибудь вроде: „Вы только посмотрите, ну что за дурачки“. Но это же не причина их обижать, да еще так жестоко. Мы бы никогда не стали этого делать. Так не годится, это неправильно. Надо же уметь себя вести, правда же? Настоящий немец так не поступает, верно же? Но вот сюда пришли немцы — и стали вести себя именно так!»
Еще до сентябрьского вторжения нацисты готовили планы относительно определенных категорий польского населения. В июле 1939 года было принято решение о формировании пяти (позже это число увеличили до шести) особых целевых групп — Einsatzgruppen, — которые будут действовать в тылу перед линией фронта и уничтожать польский правящий класс‹6›. 7 сентября Рейнхард Гейдрих заявил главам службы безопасности, что руководство Польши должно быть «обезврежено»‹7›.
Что же касается двух миллионов польских евреев, им угрожала смертельная опасность. Тысячи из них были убиты уже в первые месяцы войны, остальных согнали в гетто. Первое большое гетто, где содержались 230 000 евреев, было создано в Лодзи в конце апреля 1940 года. Все это санкционировал сам Адольф Гитлер, который, по словам Геббельса, находил поляков «скорее животными, чем людьми» и считал, что «они просто невероятно нечистоплотны». Как говорил Геббельс, у Гитлера для поляков был только один приговор: «уничтожить»‹8›.