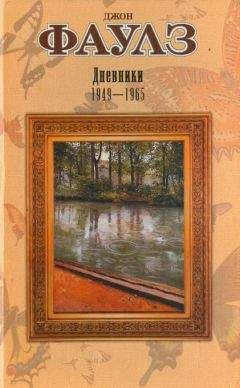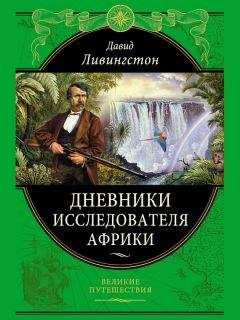Дж. пришлось многое вынести. Я понимаю, что босоножки стучат из-за стальных набоек, которые ей прибили на каблуки, чтобы кожа не так быстро снашивалась.
Позже она сказала:
— Подобное отношение свойственно поэту. Оно неестественное.
И только подлила масла в огонь. Конечно, неестественное. У меня нет никаких рациональных причин злиться на ее босоножки.
Такая реакция связана с эстетическим отвращением, порожденным моим положением здесь. И возникла неожиданно, как приступ тошноты.
Дребезжание крышки на чайнике.
Июнь
Ленч в Колледже иезуитов.
Лектор прочитал свою речь с фантастической быстротой, полностью проглотив конец. Сразу же послышались смех и болтовня. Я был этим шокирован. Сам лектор, спускаясь с кафедры, улыбался. Была пятница, и потому подали рыбу. Правда, еще землянику и два сорта вина.
Я изумился и тому, что юноши курят, и тому, как свободно они беседуют с преподавателями.
Два священника шутили, пересмеиваясь, как школьники.
Колледж располагается в огромном доме неподалеку от реки, его окружает изумительный парк.
Все проведенное там время я остро ощущал свою предубежденность против иезуитов и их порядков — антикатолический настрой, связанный с протестантским воспитанием; и чувствовал себя среди присутствующих отважным исследователем. Хотя сознавал, что являюсь тем, кого презираю, — стопроцентным англичанином.
Робер Брессон «Дневник сельского священника»[196]. Поразительный фильм. Чрезмерно мрачный. Не взрыв отчаяния, а затяжная депрессия. Нет ни радости, ни утешения, действие развивается медленно, многое недосказано. Кафка, Паскаль и ранний русский кинематограф. Глубокая печаль на лице молодого священника незабываема, но, когда смотришь фильм, не можешь отделаться от мысли, что, возможно, именно этот страдальческий жребий и мазохизм заставляют его (и многих мучеников) действовать. Такое глубокое, всепоглощающее страдание, такая серьезность противоестественны. Нельзя вообразить людей, до такой степени охваченных скорбью. Это экстремальная ситуация, психологический казус. Художественное решение вполне достойное, хотя и не очень оригинальное, если не считать пауз на саундтреке. Не помню другого случая, когда после фильма люди покидали бы зал в таком молчании. В высшей степени католический фильм.
Перед показом выступил монах-доминиканец, давший что-то вроде церковного комментария. Стиль его выступления был близок укладу жизни французской провинции, он долго объяснял то, что и без него известно и очевидно. Зато он великолепно смотрелся в кремово-белой рясе на фоне зеленого занавеса. В целом зрители его слушали, хотя кое-кто шептался, кто-то позевывал. Пуатье — один из немногих городов, где еще можно наблюдать такую сцену.
Мы с Дж. часто ссоримся — в преддверии неизбежной разлуки через две недели.
На днях я сказал Дж., что вряд ли способен испытывать настоящее чувство к женщине, а так, как сейчас люблю ее, мог бы любить нескольких. И я действительно мог бы любить других женщин больше, чем ее. Но не отдавая себя целиком. Объяснил я это тем, что больше всего люблю себя, свое будущее, свою еще не сформировавшуюся личность, и потому не способен на большее. Никакой радости по поводу своего эгоизма я не испытываю: совсем не легко нести одну ношу, когда хватает воображения представить себе множество других вещей.
Я мог бы жениться на Дж. хоть завтра — я достаточно люблю ее для этого, — но у меня нет денег. И не будет еще несколько лет. За это время она может превратиться для меня в древнюю окаменелость, сам же я могу встретить другую женщину и получить нужные мне нежность и заботу. Невозможность для меня раствориться в любимом человеке связана с тем, что я слишком завишу от времени. Я не смогу любить Дж., если ее не будет рядом. Конечно, может случиться, что года через два я по-прежнему буду один и у нее никого не будет, и тогда мы сможем начать все заново — с того места, на котором остановились.
Я никогда не говорю о своей сильной стороне — смеси честолюбивых амбиций и всего талантливого, что во мне есть, — она жестко нацелена на достижение поставленных целей. Девиз: «Забудь прошлое и завоюй будущее». Мне вообще не следует жениться, но я женюсь.
Два дня назад она непрерывно рыдала.
— С этим ничего не поделать, — говорила она. — Я люблю тебя сильнее, чем любишь меня ты.
Я этого не отрицал, но объяснил, что этот мой дефект врожденный, носит общий характер, а не распространяется только на нее, и что любовь — одна из тех вещей, где воля ничего не решает. Надуманная, идущая от головы любовь между двумя чувствительными людьми вроде нас заранее обречена. Фальшь тут же обнаружится. В нас сидит счетчик Гейгера, мы постоянно с ним сверяемся.
— Я начинаю верить в Бога. Случилось прямо противоположное тому, что было в Париже, — сказала она. (Она была неофициально помолвлена со студентом юридического факультета, но разорвала помолвку.) — Только теперь я понимаю, как он страдал.
Чувствуя себя виноватым и несчастным, я старался ее утешить. Но даже в этом я участвовал всего лишь процентов на восемьдесят. Ни один контакт с внешним миром не затрагивает меня целиком. Выше того, что испытал с Джинеттой, я не поднимался. Какая-то моя часть всегда отходит и следит за происходящим со стороны.
Что это? Шизофрения? Или тайное самодовольство?
6 июня
Джинетта. Я с ней отвратительно лицемерен. Психологически я играю с ней, как со старым мячом, — экспериментирую, рискую, рисуюсь. Ведь сейчас в моей голове зреет nouvelle[197] о ней или о ее окружении; я вижу в ней скорее персонаж, чем самостоятельную личность. В повести неизбежен «печальный» финал — разлука, что для меня вовсе не является печальным (печаль — романтическое лицемерие), — и потому я готовлюсь к отъезду, потакая своей меланхолии. Ей следовало бы взорвать меня динамитом. Я кажусь себе чудовищем, потому что теперь мы больше (для меня) не люди, а персонажи будущей повести. Я начинаю осознавать, что в своих попытках объективно взглянуть на реальность, оценить ее, слегка от нее отстранился. Не уверен, что мне хочется снова ступить на твердую землю, и потому дрейфую в море запутанного самоанализа — вдали от земных контактов, искренних и безусловных, вслепую подаренных отношений с приятелями или женщиной.
— Лучше бы нам не знать друг друга, — говорит она. — Если б я только знала, сколько горя меня ждет.
На это я ответил, что всякий опыт ценен.
Она:
— Какой в этом смысл, если все кончается néant[198], неизбежной разлукой?