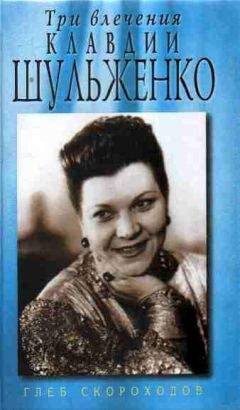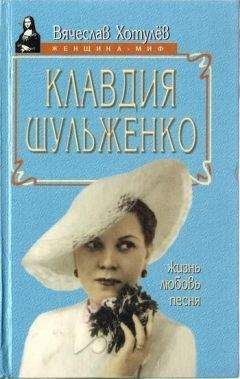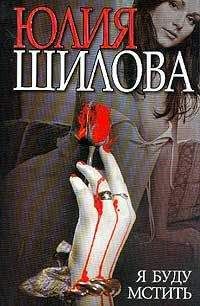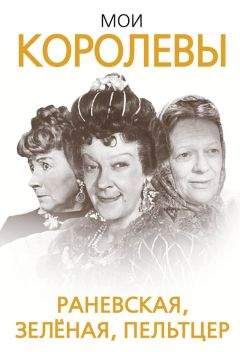В «Студенческой застольной» было важное качество. Она адресовалась не только тем, кто учится сейчас, но и тем, для кого годы учения давно миновали:
Только память вы в сердце храните
О горячности наших бесед,
О возникшей в стенах общежитий
Тесной дружбе студенческих лет!
К студенческой теме Островский обращался и в дальнейшем. Появилась новая песня – «Мы все студенты», но и тут была попытка переадресовать ее всем слушателям. Исполняя припев, я впрямую обращалась ко всему залу: «Да, да, друзья, мы все – студенты!» – включая и тех, кто пришел на концерт, и себя, и аккомпаниатора, на которого указывала легким жестом, в круг героев песни. Это обычно вызывало веселое оживление зрителей – ту самую реакцию, которую Аркадий Ильич ценил дороже аплодисментов. Свою страсть к пронизанной юмором песне он сохранил навсегда.
Задумчивые, окрашенные легкой грустью произведения для него были редкостью. В появлении одного из них я приняла некоторое участие. Я была на гастролях в Гомеле. Стояла ранняя весна, по-летнему теплая, и старый городской парк над рекою был весь в зелени и цвету. Бродила по его дорожкам, смотрела на бабушек, пришедших с внучатами погреться на первом солнышке, на пары влюбленных, на стайки школьников, что-то горячо обсуждавших, и думала: а ведь, наверное, можно рассказать обо всем этом в песне.
Вернувшись в Москву, была полна решимости – такая песня должна появиться. И даже знала, какая у нее будет мелодия. Помните, я говорила о песне Островского «Срочный поцелуй»? Ее текст не выдержал проверки временем, и она была, казалось, навсегда забыта. Но все эти годы мелодия ее не покидала меня.
Случилось так, что в первый же вечер по приезде мне позвонили из музыкальной редакции радио и предложили выступить в новом праздничном обозрении – приближались майские дни.
– А когда запись? – спросила я.
– Через две недели, – ответила Лидия Васильевна Шилтова, возглавлявшая отдел советской песни. – Авторы обозрения написали для вас очень хорошую сценку, и надо решить, что вы будете петь.
– Сценку с удовольствием сыграю, – согласилась я, – а песня будет новая и, по-моему, замечательная!
Лидия Васильевна поинтересовалась авторами песни и ее названием.
– Названия пока нет, и авторов тоже. Вернее – есть прекрасная мелодия Аркадия Островского, есть и идея песни. Остановка только за текстом, но, если авторы обозрения напишут его, – к нужному сроку песня будет!
И через две недели, несмотря на стойкий скептицизм редактора, которая отлично знала, как кропотливо я работаю над каждым новым произведением, мы записали песню. Поэты – Владлен Бахнов и Яков Костюковский – назвали ее «Мой старый парк»:
Я люблю тебя, мой старый парк,
И твои аллеи над рекою.
Не забыть тебя, мой старый парк,
Сколько связано с тобою!
Не слишком ли быстро родилась эта песня? Не противоречит ли ее история моей практике? Не помню, кто из поэтов на вопрос, как он сумел так быстро написать замечательное стихотворение, ответил: «Для этого мне понадобились два часа и вся жизнь!»
Первое послевоенное решение главреперткома, оставившее певицу, и не только ее, без репертуара, было дурацким. Иных цензура в ту пору и не принимала. Свои действия она объясняла благовидными, как ей казалось, предлогами: люди устали от войны, зачем им напоминать о ней в песнях?! Если бы только в песнях! Запрету подверглись и фильмы на военную тему. Те, что уже были запущены, с грехом пополам выходили на экран, иной раз через пять лет после окончания съемок, как это было со «Звездой» по Казакевичу, оскопленной, с переснятым благополучным финалом. Беспрепятственно появилась «Сталинградская битва», где солдаты показывались только на общих планах – лица не разглядеть, и лишь один великий полководец, все решающий, давался крупно, хоть и с изрядной долей плакатности.
Рассказывают, что Сталин, посмотрев этот фильм, спросил Алексея Дикого, сыгравшего Верховного главнокомандующего, почему, мол, ему удалась роль, хотя внешне он не похож на своего героя.
– Я играю не Сталина, а представление народа о нем, – ответил артист, вскоре удостоенный Сталинской премии.
Беспрепятственно вышли на экран «Третий удар» и «Падение Берлина», апогей прославления генералиссимуса.
Здесь уместны несколько цифр; в 1946 году – 9 фильмов о войне, на следующий год – 7, два года спустя – 5, а через пять лет – ни одного!
Цензура пустила в ход еще один довод, объясняющий такое положение. Трудно поверить, но с ведома идеологических инстанций утверждалось, что фронтовики кичатся военными подвигами и заслугами, козыряют наградами и нашивками о ранениях. Что было, то, мол, прошло, надо заниматься мирным строительством, а не ковыряться в прошлом. За подобными «доводами» стояли, разумеется, политические причины, одна из которых – приструнить народ, почувствовавший в военные годы самостоятельность, – очевидна.
И вот что характерно. Когда уже в пятидесятые годы Сергей Сергеевич Смирнов призвал: «Фронтовики, наденьте ордена!» и начал поиски героев Брестской крепости и тех, кто, попав в плен, затем отсидел сроки в советских лагерях, Шульженко, решившей восстановить песни военного репертуара, настоятельно советовали:
– Ну зачем вам петь о том, что давно забыто?! Вы только сузите адрес своих песен. А их так легко адаптировать к сегодняшнему дню! В «Синем платочке» опустите куплет о пулеметчике – и песня сразу станет общечеловеческой, просто песней о любви. И зачем вам в «Приходи поскорей» эти слова – «папа на фронте»? Спойте «папа далеко» и песня станет общепонятным рассказом об одинокой женщине, которую по разным причинам покинул муж и она надеется, что он все-таки вернется!
– Я никогда не стану этого делать, – отринула Клавдия Ивановна все советы. – В этих песнях то, что пережили люди, и я вместе с ними. В них история, а ее не исправишь.
И пела военные песни, не изменив их ни на йоту.
К записи каждой песни она относилась по-особому. Вот еще один пример. Случилось так, что до работы над новым гигантом Шульженко не появлялась на студии несколько лет. За четырехчасовую смену она собиралась спеть «Товарища гитару» Эдуарда Колмановского, «Знаю, ты не придешь» Валентина Левашова, «В небе звезды горячи» Тамары Марковой и «Руки» в новой трактовке.
Музыканты собрались из силантьевского оркестра, дирижировал Борис Карамышев. Работа поначалу шла легко. Хорошее настроение певицы передалось оркестрантам, они играли на одном дыхании с ней.
После первой песни Шульженко пришла в аппаратную слушать запись. Приняв обычную позу – глаза закрыты, к переносице поднесена щепоть пальцев, как при крестном знамении, – она вся погружается, оценивает каждый звук и интонацию.