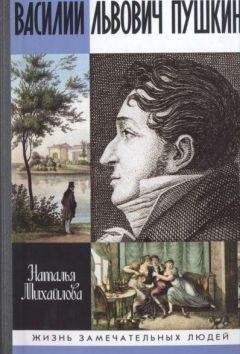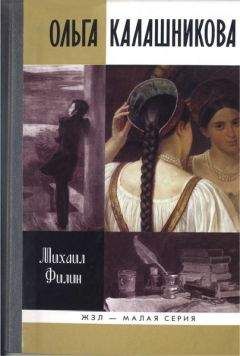К монологу Марьи Фёдоровой можно приобщить заметку С. П. Шевырёва, датируемую началом 1850-х годов: «Эта Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает об его доброте, подарках ей, когда она прихаживала к нему в Москву…»[446]
С недавних пор бытует версия, что поэт заехал-де в Захарово к Марье Фёдоровой еще и 25 августа 1833 года, по дороге из гончаровского Яропольца в Москву[447]. Некоторые исследователи считают такое предположение «очень убедительным»[448].
Конечно, общение с дочерью Арины Родионовны тоже было для Пушкина данью памяти няни. При его долгих разговорах с Марьей Фёдоровой незримо присутствовала и «мамушка». Вполне вероятно, что имя покойницы всплывало во время бесед барина с захаровской крестьянкой.
Не мог не вспомнить поэт Арину Родионовну и в Михайловском, где он побывал в сентябре — октябре 1835 года. Через две недели после приезда в сельцо, 25 сентября, Пушкин писал жене в Петербург: «В Михайловском нашёл я всё по старому, кроме того, что нет уж в нём няни моей…» А через несколько строк, поведав Наталье Николаевне о впечатлении, произведённом им на «знакомую бабу» («ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел»), Пушкин привёл запавшее в душу присловье нашей героини: «Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (XVI, 50–51).
Это — его последнее из дошедших до нас эпистолярных высказываний об Арине Родионовне.
Дважды, в 1829 и 1832 годах, Александр Пушкин опубликовал стихотворение «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…»)[449]. В 1832 году вышла в свет и заключительная глава «Евгения Онегина», где в XLVI строфе иносказательно говорилось о почившей няне. Наконец в марте 1833 года в петербургской типографии А. Ф. Смирдина было отпечатано полное издание романа в стихах — и, таким образом, у публики разом появились все пушкинские строфы о Филипьевне, писавшиеся в течение ряда лет.
В тридцатые годы Пушкин создавал и новые тексты, поэтические и прозаические, имевшие касательство к Арине Родионовне.
Черновики поэта и дневниковая запись польского журналиста Ф. И. Малевского от 19 февраля 1827 года[450] свидетельствуют о том, что драма <«Русалка»> (изначально называвшаяся «Мельник») обдумывалась Пушкиным ещё в 1826 году, при жизни нянюшки. Однако основная работа над произведением проходила в несколько этапов, уже после смерти Арины Родионовны — начиная с осени 1829 года. Беловой автограф драмы был завершён к концу апреля 1832 года (VII, 380). Хотя автор и не делал из <«Русалки»> никакой тайны, даже читал её и обсуждал с приятелями в Москве и Петербурге, в печать он драму так и не отдал.
Учёные давно пришли к выводу, что в образ одного из персонажей драмы — княгининой мамки — Пушкин привнёс «черты Арины Родионовны»[451]. Княгиня величает свою конфидентку «мамушкой» (VII, 201, 325, 326), а в черновых редакциях — и «няней», и «нянюшкой» (VII, 325, 335). Аналогично называет мамку в брульоне и сам автор (VII, 325, 326, 328), — а мы помним, что слово «няня» было для Пушкина чем-то вроде имени собственного.
Заодно отметим, что беседа этой «няни» со своей «княгинюшкой», происходящая «ночной порою» (VII, 203), напоминает столь же поздний разговор Татьяны Лариной с Филипьевной. Да и рассказчицей мамка из <«Русалки»> оказалась незаурядной, её язык очень меток и образен — взять хотя бы такие перлы:
Княгинюшка, мужчина что петух:
Кири куку! мах мах крылом и прочь.
А женщина, что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят… (VII, 201).
В октябре того же 1832 года Александр Пушкин, вернувшись из Москвы в Петербург, приступил к работе над романом <«Дубровский»>. Важным действующим лицом романа стала Орина Егоровна Бузырева, старая няня Владимира Дубровского. (В черновиках она единожды была названа Ириной Егоровной и единожды — Аксиньей Егоровной Троцкой; VIII, 771.) Уже этим сигналом — именем старухи — автор намекнул, кто являлся жизненным «идеалом» Егоровны.
Едва начав роман и набросав начерно две главы, Пушкин в конце октября — начале ноября[452] внёс существенные коррективы в план произведения. Он составил новый план <«Дубровского»>, где фигурировал, среди прочих, и такой пункт: «Дубровский — 1ая глава, 2ая, болезнь, письмо няни» (VIII, 830).
И в третьей главе «письмо няни» действительно появилось.
Этим посланием из Кистенёвки Егоровна оповестила Владимира Дубровского, «служившего в одном из гвардей<ских> пех<отных> полков и находящегося в то время в Петербурге» (VIII, 172), о печальных событиях, случившихся в родовом имении. «Добрая старуха», прибегнув к услугам повара Харитона, «единственного кистенёвского грамотея» (VIII, 172), сообщала своему воспитаннику:
«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровьи папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое — а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы-декать ихние, а мы искони Ваши, — и отроду того не слыхивали. — Ты бы мог живя в Петербурге доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. — Остаюсь твоя верная раба, нянька
Орина Егоровна Бузырева.
Посылаю моё матер<инское> благосл<овение> Грише, хорошо ли он тебе служит? — У нас дожди идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня» (VIII, 172–173).
В 1908 году, после выхода в свет второго тома Переписки поэта (под редакцией В. И. Сайтова), пушкинист Н. О. Лернер взял да и обнаружил «сходство» между «довольно бестолковыми строками» (VIII, 173) письма Егоровны и посланием Арины Родионовны Пушкину от 6 марта 1827 года, которое было написано при участии А. Н. Вульф. О своём открытии («няниной реминисценции») учёный поспешил рассказать на страницах авторитетного издания Императорской Академии наук — сборника «Пушкин и его современники»[453].
«Сходство между обоими приведёнными письмами бросается в глаза сразу, — заявил Н. О. Лернер. — Оно не ограничивается одним общим тоном, выражающим сердечную любовь и привязанность престарелой пестуньи к питомцу, одним и тем же языком, удивительно народным и живым, из родника которого зачерпнул столько прелести наш великий мастер слова, — но идёт дальше и доходит до общих выражений».