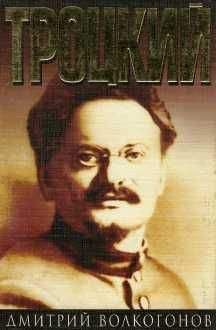В этих документах Троцкий как бы говорил: можно притворяться перед другими, но нельзя притворяться перед собой.
Это было уже слишком. По предложению "тройки" в тот же день, 16 октября, когда в Политбюро поступило "Заявление 46-ти", состоялось экстренное заседание Президиума ЦКК РКП(б). Руководство Контрольной комиссии констатировало, что "разногласия, перечисленные тов. Троцким, в значительной степени искусственны и надуманны", что "выступления, подобные выступлению т. Троцкого", могут стать "гибельными". Президиум фактически отмахнулся от предостережений Троцкого, позаботившись лишь о том, чтобы его письмо не распространялось в партийных организациях[21].
Однако "тройка" посчитала такую реакцию слишком мягкой. По настоянию Сталина и его временных союзников 23–25 октября 1923 года состоялся объединенный Пленум ЦК и ЦКК, на который пригласили специально отобранных рабочих из десяти крупнейших парторганизаций. И в дальнейшем так будет не раз: Советская власть любила говорить от имени рабочего класса. Большинство участников Пленума расценило письмо Троцкого в Политбюро и "Заявление 46-ти" как грубую политическую ошибку, как нападки на ЦК и Политбюро. По предложению Оргбюро и Секретариата ЦК, которые находились уже под решающим влиянием Генерального секретаря, Пленум квалифицировал заявление Троцкого и его сторонников как откровенно "фракционное". Там же было решено не разглашать письмо Троцкого, "Заявление 46-ти" и резолюцию Пленума, принятую по этим документам. Политбюро, видя неизбежность дискуссии, не хотело, чтобы в основу ее легли названные материалы. Поэтому в "Правде" появилась критическая статья Зиновьева, которая и стала сигналом к дискуссии.
Едва заметный в начале 1923 года раскол в Политбюро, которого так боялся Ленин, становился явным, открытым. Вновь были пущены в ход старые обвинения Троцкого в "меньшевизме". Бюро Московского комитета партии нажимало на то, что "разброд в рядах РКП нанесет величайший удар ГКП и немецкому пролетариату, готовящемуся к захвату власти"[22]. Руководство партии не захотело услышать трезвые голоса, предупреждавшие об опасности. Используя антидемократический седьмой пункт резолюции X съезда "О единстве партии", ее фактические руководители в середине января 1924 года, за несколько дней до смерти Ленина, на XIII партконференции квалифицировали позицию Троцкого и его сторонников как "меньшевистскую ревизию большевизма".
Возможность хотя бы относительного излечения партии на раннем этапе болезни была отброшена. На объединенном Пленуме ЦК и ЦКК РКП(б), состоявшемся через две недели после рассмотренного выше письма Троцкого в Политбюро, опять всплыл этот вопрос. Троцкий вновь подготовил к Пленуму пространное письмо, в котором на нескольких страницах отстаивал свои взгляды, изложенные в начале октября[23]. В этом послании Троцкий показывает, как его пытаются противопоставить Ленину, обвинить в недооценке крестьянства, при этом особо отмечает "личные моменты" в нападках на него. "Совершенно непостижимый характер имеет обвинение меня в том, — пишет Троцкий, — что я в последние годы уделял армии недостаточно внимания". Троцкий с обидой говорит, что "намекают" на его чрезмерное занятие вопросами литературы… "Обвиняемый" отвергает обвинения и, как и прежде, настаивает на необходимости "снять внутри партии искусственные перегородки"[24].
В заключительный день работы Пленума Троцкий и Сталин, пожалуй, впервые публично обменялись взаимными обвинениями (хотя и достаточно сдержанными). Но Сталин действовал более наступательно и потребовал "осудить Троцкого". К сожалению, до кончины Ленина выступления на заседаниях пленумов не стенографировались и потому беглые записи, сделанные помощником Сталина Б.Бажановым, не содержат всей аргументации соперников[25]. Пленум "предложил тов. Троцкому принять в дальнейшем более близкое и непосредственное участие в практической работе"[26], то есть, по существу, ему было заявлено, что если бы Предреввоенсовета "занимался делом", ему некогда было бы вставать в оппозицию…
Атмосфера Пленума для Троцкого была крайне неблагоприятной. "Тройка" и ее сторонники инициировали неприязнь к Льву Давидовичу, давая тенденциозные и во многом несправедливые оценки его позиции. Хотя стенограмма Пленума, как я уже отмечал, не велась, сохранилось письмо Крупской к Зиновьеву, ставшее известным лишь недавно. Надежда Константиновна страстно протестовала против попыток "тройки" свалить на Троцкого организацию раскола в партии, против того, чтобы изображать его виновником болезни Ленина. "Я бы крикнула, — писала Крупская, — это ложь, больше всего Владимира Ильича заботил не Троцкий, а национальный вопрос и нравы, воцарившиеся в наших верхах". Ее волновало и возмущало, что в борьбе с Троцким Сталин и его сторонники стали грубо попирать принципы и нормы партийной жизни[27].
Троцкий понял, что его голос не был услышан. "Обруч" сжал его в своих большевистских объятиях, и хотя Лев Давидович находился после XIII партконференции на Черноморском побережье Грузии, эту аппаратную схватку он чувствовал почти осязаемо. Один из зодчих большевистской Системы не понимал, что попытки ее "улучшения" бесплодны, ибо исходные постулаты ленинизма, опирающиеся на монополию одной партии, делают это реформирование невозможным.
К стылым дням января, когда Ленина не стало, многое уже было предрешено. Троцкий оказался в глубокой изоляции. Расхаживая в одиночестве по берегу Черного моря, он мучительно размышлял: что делать? Дальнейшая его жизнь даст ясный ответ на этот извечный вопрос русской интеллигенции — бороться. Бороться. Этот человек не мог, не изменив себе, поступить иначе. Троцкий никогда не пользовался политическим гримом. Он знал, что время его безжалостно стирает.
Находясь в изгнании, Троцкий вспоминал, что 1923–1924 годы оказались переломными в его судьбе. Еще при Ленине, писал позже Троцкий, в верхнем слое партии стали проявляться черты кастовости, складывались неписаные нормы, правила поведения в "своем кругу". Пока шла гражданская война, размышлял Троцкий, все жили "по камертону партии". Когда же напряжение смертельной борьбы спало "и кочевники революции перешли к оседлому образу жизни, в них пробудились, ожили и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников". В правящем слое, отмечал Троцкий, входили в моду "хождение друг к другу в гости, прилежное посещение балета, коллективные выпивки, связанные с перемыванием косточек отсутствующих…"[28]. Троцкий не принимал участия в этой бытовой полумещанской жизни, что лишь ускоряло и без того быстрый процесс полного отторжения революционера от касты "вождей".