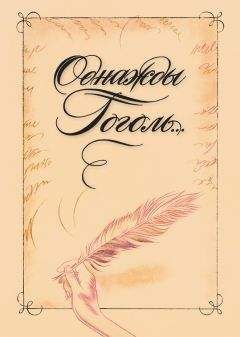Роскошный портфель
Александра Осиповна Смирнова, старая приятельница Гоголя, как-то раз предложила ему в подарок свой роскошный портфель, образцовое произведение английского магазина. «Вы пишете, – сказала она, – а в нем помещается две дести бумаги, чернильница, перья, маленький туалетный прибор и место для ваших капиталов». Гоголь, рассмотрев портфель с большим вниманием, ответил: «Да это просто подлец, куда мне с ним возиться. Отдайте лучше Жуковскому: он охотник на всякую дрянь».
Та же Александра Осиповна Смирнова вспоминала, как однажды она говорила с Гоголем о разных удобствах в путешествии и он сказал, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал туда не ездить. «Вы как это знаете, Николай Васильевич?» – спросила она. «Да я там был: пробрался из Испании, где так же прегадко в трактирах», – отвечал он преспокойно. Александра Осиповна стала утверждать, что он не был в Испании, что этого не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые оттуда приезжают, много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все это Гоголь хладнокровно отвечал: «Зачем же все рассказывать и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вам с первого раза человек все выкладывал, что знает и не знает, даже и то, что у него на душе».
Смирнова осталась при своем, что он не был в Испании, и меж ними сложилась шутка: «Это когда я был в Испании». В Испании Гоголь точно был, но проездом…
Екатерина Александровна Хитрово в своем одесском дневнике приводит некоторые суждения Гоголя о Пушкине. Так, однажды при разговоре о пожаре Гоголь заметил: «Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил, что ничего нет смешнее этого вида». При этом Гоголь добавил: «В самом деле, жалко бедных!»
В другой раз на вопрос княжны Репниной, был ли Пушкин импровизатор или творец, Гоголь ответил: «Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все. И силы телесные были таковы, что их достало бы у него на девяносто лет жизни». И далее Гоголь сказал: «Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться».
Почему Гоголь сжег дневник
Та же Екатерина Александровна Хитрово однажды заметила Гоголю, почему бы ему не писать записок своих. Он ответил: «Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я бы оставил; а то бы это непременно выдали, а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо сделал. Я от этого и сжег».
Михаил Александрович Максимович, один из ближайших друзей Гоголя, рассказывал о встрече с ним в Киеве летом 1835 года, после трехлетнего перерыва. По его словам, Гоголь уже тогда поразил его своей глубокой религиозной настроенностью. «Он пробыл у меня пять дней, – вспоминал Максимович, – или, лучше сказать, пять ночей: ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа… Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении духа: он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым… Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в мыслях – под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался Русским Иерусалимом…»
Как-то в разговоре со своим земляком профессором Московского университета Осипом Максимовичем Бодянским Гоголь сказал: «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника… Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно». При этом Гоголь говорил: «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан…»
Гоголю не нужно было выяснять, малороссиянин он или русский – в споры об этом его втянули друзья. В 1844 году он так отвечал на запрос Александры Осиповны Смирновой:
«Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».
Как-то раз Гоголь, уже снискавший литературную славу, приехал к соседней помещице и застал там гостей. У помещицы был единственный семилетний сын, в котором она души не чаяла и давала ему свободу во всем. Закуска была на столе, подали кофе. В это время вошел сын хозяйки, бегавший с мальчишками в саду. «Чего ты, душечка, хочешь?» – спросила мать. «Вареныкив хочу», – отвечал мальчик. «Ах, как можно так говорить! Говори, душечка, по-русски!» А тот еще настойчивее: «Вареныкив хочу, дайте мини вареныкив».
Мать сильно сконфузилась и не знала, что делать, давать ли сыну вареников, которые были в числе прочей закуски, или учить его говорить по-русски. Видя смущение матери, Гоголь сказал: «Зачем вы мешаете ему, пусть говорит он на своем родном наречии. Придет время, и всему прочему еще успеет научиться».
Ни при каких трудных обстоятельствах Гоголь не оставлял заботы о ближних, в том числе и о крестьянах. Ольга Васильевна Головня, сестра писателя, рассказывала, как однажды они были в церкви и Гоголь увидел, что священник раздал им просфоры, а крестьянам нет. Когда возвращались из церкви, он положил руку на плечо сестры и попросил, чтобы она велела к каждой службе печь по двадцать пять просфор, резать их на четыре части и отправлять в церковь, чтобы священник мог раздавать людям. При этом дал ей двадцать пять рублей, чтобы не брать у матери муку, и впредь обещал присылать денег.