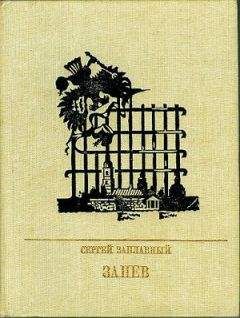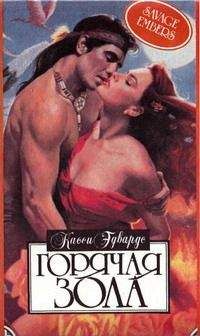«Александрия» — одна из трех летних резиденций Браницких. Расположена она в трех верстах от Белой Церкви и названа так в честь племянницы Потемкина Александры, которая осталась в памяти людской благодаря своему беспутству. А место сказочное: двухэтажный замок на высоком берегу незамерзающей Раса, парк с диковинными деревьями, привезенными откуда-то из дальних стран, фонтаны и водопады, затейливые домики и беседки, белые статуи, цветники с мальвами и георгинами. Запах любистика и мяты смешан здесь с запахом яблок и вишен, скошенной травы, напитан солнцем и тишиной. Одно время, еще до замужества, мать служила там прачкой и насмотрелась на «веселье» господ…
При одном упоминании об «Александрии» отец раздражался, начинал жалеть, что не подпалил замок в александрийском парке заодно с сельской усадьбой на тракте к Таращам. Любые слова о шашнях богатых вызывали в нем гнев. Вот и вычитки из «Развлечения» осердили его:
— Поганые развлечения! Пусть по ним панские дети учатся, а я тебе, сынку, иншие расподостану. Коли ты у нас грамотей, так и не пачкайся той гадью. Шукай про долю нашу, про боротьбу!
И правда, вскоре он добыл книгу без обложек с мудреным названием «История цивилизации».
Дядько Павло объяснил, что цивилизация — это состояние народов, у которых выработаны умственные способности, процветают науки и искусства.
— Вот це дило! — обрадовался отец. — Ты, сынку, читай и мне допоказуй. Буду и я с тобой грамоту долбить.
«История цивилизации» была написана тяжелым языком. Непонятных слов и выражений в ней было больше, чем понятных, но это не отпугнуло Петра. Споткнувшись на чем-то, он шел к дядьке Миколе или к дядьке Павло. Те, поражаясь его упорству, объясняли заковыристое место, упрощая его чуть ли не до сказки. Петр терпеливо и старательно все запоминал, чтобы потом растолковать отцу. Оба они путались, многого не понимали, но упрямо двигались вперед. Оказывается, миллионы лет назад люди жили необузданно и беспорядочно, как звери; потом начались в них физические и нравственные перемены. Преодолев варварство, они научились строить, разделились на страны, религии… Одна из наиболее древних цивилизаций — Греция. Городские общины там звались полисами, они были главной опорой государства. Так что политика — это учение о городе и государстве, о законах, управляющих его организацией и обычаями…
— Охо-хо-хо, — гневно развеселился, услышав это, отец. — Одному ложка с медом, другому шиш с маком!
А кому такая жизнь не по нраву — в кайдани ею и айда в Сибирь! Тут тебе и нравственность, тут и цивилизация. Ловко придумано, ничего не скажешь! Ты, сынку, читай-то читай, да на ус мотай. Политика — это не учение, нет! Политика — ярмо, куда во все времена пихали неугодных.
— У меня усов, батько, нету.
— Усы отрастут, то дело нехитрое. Ты ум расти да держи в горсти.
Такая у отца причуда: когда разволнуется, говорит складно, стихами. А волновался он часто: то уездный пристав или кто еще из дозирателей придирку сделает, то наемщики платой обидят… Мало ли причин? На людях, правда, он виду не показывал — отворотится и молчит. Зато в близком окружении бывал и злоязыким, и заполошным. Но мать знала, чем его остудить. Затянет, бывало, украинскую песню, он и затихнет, засопит, глазами повлажнеет:
— От же ж зараза. До дна пронимает. Лучше не бувает!
Однажды Петр вычитал из «Истории цивилизации», каким наказаниям подвергали своих рабов древние римляне: бросали в колодцы и печи, заставляли умирать на крестах, сажали на колья, сжигали в смоляной одежде, приказывали убивать друг друга — сначала для своего развлечения, потом в цирках — для развлечения толпы. Так появились гладиаторы, несчастные пленники всех наций. Один из них по имени Спартак поднял восстание против тиранов. Примкнуло к нему семьдесят тысяч обездоленных. Они разбили высланных против них легионеров, потом и сами были разбиты…
Как восхищался Спартаком отец! Он величал его то царь-атаманом, сразившимся с жестокостью и обманом, то добрым козаченькой, то римским Разиным Стенькой. Размечтался:
— Вот где, в Сибири, треба собирати тех гладиаторов, що свернут шею брюханам-кровопийцам! Вот где треба делать политику для всей громады!
— Тю на тебя, скаженный, — урезонивала его мать. — Уймись! Не мути Петрусю голову. Зачем ему твоя политика? Успеет еще, намыкается. Он и так без вины виноватый.
— И то, мать, — виновато соглашался отец, оглаживая длинные подусники. — Твоя правда. Больше он от меня слова лишнего не почует!
Но «лишние» слова то и дело выскакивали. Особенно летом, когда отец взял сына на раскорчевку. Далеко от Ишима забрались они, много дней провели в тайге.
Помня просьбу матери об уроках, начнет Микола Чубенко объяснять Петру, как, например, с помощью твердого предмета на упорной точке — иначе говоря, с помощью рычага — уравновесить большую силу меньшей, а отец тут как тут:
— Эту физику, видать, паны выдумали. Только нехай не радуются, мы свой рычаг сладим — ай да ну!
Работал отец споро, будто играючи. Подрубит дерево с наветренной стороны, свалит, вобьет в пень когти железные с цепью, вложит в самое большое кольцо жердь — и начинают они с Чубенкой силиться, выкручивая оставшиеся в земле корни. Взмокнут, синими от натуги сделаются, а все отцу нипочем. Легко ходит, посмеивается, еще и втолковать Петру успевает:
— Корни вдалеке от ствола каменные, а вплоть к нему — колкие. Здесь их и рубить треба.
Потом вдруг добавит:
— Дерево, сынку, тоже умирать не хочет. Вцепится в землю из последней мочи, слезы роняет, а стоит. У порубщика все — топор, рычаг, крюки, цепи, а у него ничего немае. Вот и выходит, что плохо быть деревом против порубщиков. Никак не можно!
Через время, словно продолжая прерванный рассказ, вновь начинает:
— Ну так вот. Свалили порубщики дерево. Зимой это было. А пень выдолбили. Да. Налили в него воды с селитрой. Фитиль засунули, глиной укупорили. Немного спустя, когда вода замерзла и стала стенки ломать, взрыв сделали. Ничего от того пня не осталось! А весной пришли — зеленый отросток. От корней. Вот и ты у меня, сынку, навроде того отростка. Мать ты, конечно, слухай, а глаза от жизни не закрывай. Ото всего учись. От книг, от работы, от людей…
Петр учился. Сам нашел себе дело на раскорчевках — заваливать землею ямы, убирать с расчищенного поля камни, корни, сучья. Уставал к ночи так, что засыпал на ходу. Отец относил его на хвойные ветки, укутывал потеплее, а в руку непременно ржаную краюху вкладывал. Очнется Петр, пожует хлебца и вновь засопит. А сквозь дремоту доносятся до него зыбкие голоса.