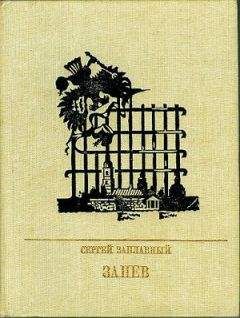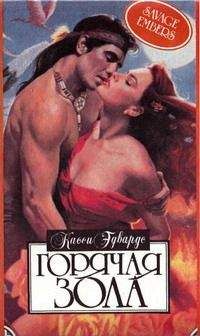А мимо проплывали то низкие, изъеденные мутными водами глинистые берега с разнолесьем, то белые пески и тальниковые заросли у тихих заводей, то темно-хвойные боры на высоких ярах. И повсюду — безлюдье, гулкое и сумрачное. Лишь иногда открывались взгляду убогие жилища, врытые в землю. Они напоминали холмики, поросшие мохом, и только деревянные трубы да двери на прутьях указывали, что здесь живут люди. Взрослые называли хозяев этих землянок остяками.
Реже попадались селения, поставленные на русский лад, крепкие и основательные. Возле некоторых из них пароход делал остановку. Пассажиры «Сарапульца» шумно спускались на берег, шли в лавку или покупали у местного населения ягоды, кедровые орехи, копченую рыбу. Арестанты следили за тем, что делалось у причала, с молчаливой угрюмостью и страданием.
И вновь вокруг лесная пустыня. Лишь изредка промелькнет остяк в долбленой лодке-обласке. Быстро-быстро толкается он о воду двусторонним греблом. Человек-лодка. Человек-река. Человек-тайга…
Необъятны российские просторы. Еще необъятней — сибирские.
Петра пугала и завораживала эта необъятность. Трудно было поверить, что в такой глуши и отдаленности могут существовать большие города со школами, гимназиями, училищами и даже университетом, который не то строится, не то уже построен.
Наконец «Сарапулец» втащил «Туру» в Томь-реку, не замутненную, как Обь, песками и глиной, а темную на глубоких местах, прозрачную на отмелях.
Едва показался город, «Сарапулец» приткнул баржу к берегу и двинулся дальше. Много часов пересыльные и пассажиры томились, ожидая своей участи. До боли в глазах Петр всматривался в далекие строения из камня, бревенчатые дома в один-два порядка. Найдется ли здесь место для него и его близких? Хорошо бы…
Уже в сумерках стали выводить с «Туры» арестантов. Затем погнали каторжных. Оступаясь на лестнице, гремя цепями, они немощно поднимались из «слепой» камеры, расположенной в дальней части зловонного трюма. Один бросился со сходен в воду. Его достали, но откачать не смогли. Фельдшер велел уложить несчастного на подводу с высокими бортами и закинуть рогожкой. Туда же снесли трех больных. Пришли за матерью, но отец не дал:
— Сам понесу, коли других телег нету!
Это был надсадный, показавшийся бесконечным переход. Волоча узлы и дорожные корзины, за арестантами беспорядочной толпой тащились их жены и дети. Всеми владела единственная мысль: не отстать, добраться до семейного барака, что должен быть неподалеку от пересыльной тюрьмы, занять там место посуше и поукромней. Лишь через день, когда отец получил вид на жительство и снял угол на Мухином бугре возле впадающей в Томь Ушайки, Петр по-настоящему увидел город. Сначала он поразил его убогостью и грязью, потом — роскошью и великолепием.
Ушайка делила город надвое. Берега ее были изрезаны овоагами, поднимались над водой то высоко, то низко. Как ласточкины гнезда, лепились в глинистых щелях ветхие домишки, не раз горевшие, подточенные весенне-осенними паводками. Иные из них держались только благодаря многочисленным подпоркам. Болотистые лога засыпаны отбросами. Кривые улочки утонули в навозе.
По одну сторону Мухина бугра располагался пивоваренный завод купца Зеленевского, по другую — лесопильня, плотницкая контора и торговые бани купца Лопухова. Об этом Петр узнал по смачным вывескам над воротами. Аршинные буквы на них чередовались с изображением пивных бутылок, соленой рыбы и обнаженных красавиц. Купеческие хоромы стояли тут же, на зеленых живописных террасах. Они были собраны из бревен одинаковой толщины, имели резные окна, тесовые крыши, купола над чердачными ходами и декоративные решетки.
Такие же хоромы, хвастливо вознесшиеся над кособокими строениями, Петр встречал потом не только в Болотной, но и в Песочной, Заозерной, Заисточной, Верхне-Еланской и других частях Томска, на Воскресенской горе и Базарной площади, от которой начинался и которой заканчивался город.
Будто соперничая с деревянными теремами, вдоль Томи поднялись каменные. Одни из них выложены из красного кирпича и ничем более не украшены, другие искусно облицованы в светлые тона. Сводчатые окна, лепные балконы, величественные колонны под вид греческих… А рядом в землю вбиты столбы с железными кольцами и скобами, чтобы привязывать лошадей. Тут же, под каменными стенами улицы Миллионной, расположились уличные торговцы, барахольщики, разносчики, шарманщики, нищие. Повсюду сор, скорлупа кедровых орехов и семечек, конские лепешки…
Православные и старообрядческие церкви соседствуют с римско-католическим костелом, лютеранской кирхой, синагогами и мусульманскими соборными мечетями — так же как губернское управление, городская управа, почтово-телеграфная, военная и прочие службы уживаются с бесчисленными торговыми, извозными, гостиничными, ремесленными и питейными заведениями.
В роще, отведенной под университет, были вырыты ямы, лежали груды камня, кирпича, бревен, песка. На ветках сосен покачивались измазанные чем-то белым бочонки. Как потом узнал Петр, в них разводили известь. Тут же ходили куры. На солнечном припеке нежилась в луже пятнистая свинья. Караульщик не замечал их, но с гиком погнался за бычком, появившимся на вырубках.
Петр почувствовал себя обманутым. Он ждал чуда, а чуда не произошло. Вместо жар-птицы он увидел общипанных кур, вместо роскошного здания — черные дыры на болотистом, заросшем сорной травой и разнолесьем склоне.
Зато величаво смотрелись корпуса губернской мужской и Мариинской женской гимназий, духовной семинарии и Алексеевского реального училища. Выходит, не ошибся в своих расчетах Чубенко, не зря склонил отца к переезду.
Это открытие несколько успокоило Петра. Возвращаясь к себе на Мухин бугор после дневных скитаний, он подробно рассказывал родителям об увиденном и услышанном.
— Золото — оно из чрева земли, сынку, — говорил, загораясь, отец. — Глаза могут бачить, но быть слепыми. Вот и ты пока слеп, не бачишь за курами да ямами будущности.
Петр пытался понять его, согласно кивал, старался быстрее привыкнуть к новой жизни и новому окружению.
Отец устроился на лесопильню к Лопухову. Заводик был тесный, неустроенный. Работало на нем не более тридцати человек. Они делали брус, чистообрезные доски, щепу для крыш и штукатурную дрань. Дневная плата не поднималась выше тридцати копеек, а со штрафными вычетами и того меньше.
Сам Лопухов был тих, вкрадчив, благообразен; часто наведывался в лесопильню, говорил с рабочими ласково, жаловался на большие издержки, в неопределенном будущем обещал прибавку к жалованью, а в престольиыо праздники угощал дармовой выпивкой.