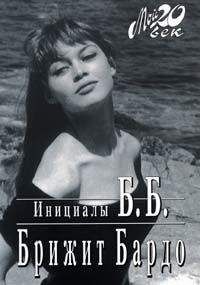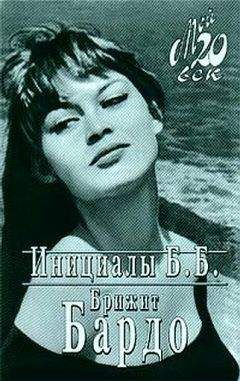Я привязывалась к Сэми, а он ко мне — нет!
Однажды я пришла совершенно убитая.
Бурная ссора с Жаком доконала меня.
Мы с Сэми стояли за щитом и ждали, когда загорится сигнальная лампочка. Мы были одни, каждый в своих мыслях. Я силилась и не могла удержать подступавшие к глазам слезы. Сэми заметил это. Он не сказал ни слова, просто взял меня за руку, сжал крепко-крепко и не выпускал. Мне стало хорошо, я ощутила острое, как боль, счастье. С тех пор, стоило нам остаться вдвоем, Сэми брал мою руку или прижимал меня к своей груди, и его глаза говорили мне все, что невозможно было сказать иначе.
Как это прекрасно — влюбиться!
Как сразу переменилось все!
То, что происходило между мной и Сэми, озарило светом мое лицо и мою жизнь. Ради него я старалась раскрыть лучшее во мне, перестала отлынивать от репетиций, свой текст знала назубок, не капризничала и не заводилась понапрасну. Клузо не узнавал меня: я стала почти шелковой. Мои девочки что-то почуяли и тактично удалялись, когда подходил Сэми.
Мы хотели сохранить в тайне нашу новорожденную любовь из уважения к Паскаль и Жаку, а также чтобы избежать сплетен. Сэми потихоньку узнавал меня, совсем непохожую на ту, что он себе представлял. Мы раскрывались друг другу застенчиво, целомудренно. У нас было время, и мы не торопили его — мы полюбили друг друга надолго.
* * *
Возвращаться на авеню Поль-Думер было тяжко.
Там меня ждали одни проблемы.
Мама отыскала мне секретаршу среди своих знакомых. Мадам Малавалон, в высшей степени «комильфотная» дама, жена морского офицера в отставке, работала впервые в жизни.
И какая это была работа!
Разобрать почту, копившуюся два месяца, в которой письма попадались порнографические, а счета ужаснули бы самого министра финансов. Эта женщина неопределенного возраста, исключительного обаяния и такта, целыми днями краснела до корней волос и поведала мне, что за несколько месяцев своего секретарства узнала больше, чем за тридцать лет брака.
* * *
Муся сообщала мне, как растет и умнеет Николя, но протестовала всякий раз, когда я хотела взять его на руки!
Микробы! Вирусы!
У меня и так не был особенно развит материнский инстинкт — этого хватило, чтобы я не рвалась к сыну.
Только моя Гуапа дарила мне всю нежность, всю теплоту, всю бесхитростную привязанность, которых я так ждала. Жак, видя, как я ласкаю собаку, отпускал неуместные намеки: эта любовь, по его мнению, должна была бы достаться ребенку. Но Гуапе-то было наплевать на микробы, вирусы, инфекцию, я могла вдоволь насладиться ее теплом, телом, глазами, и никто не протестовал.
Сэми снял однокомнатную квартирку возле парка Монсо.
Первый этаж, темный, унылый, грязный! Боже, какие мерзкие квартиры бывают в Париже! Но для нас это была единственная возможность спокойно побыть вдвоем, уйти ненадолго от всего света — а нам так этого хотелось. Мы слушали концерт для двух скрипок Баха, концерт для кларнета Моцарта, Дворжака. Музыка окружала нас, раздвигая унылые серые стены повседневности.
Сэми был редким человеком — какой-то вулкан нежности, бездна тепла и глубины. Он был и останется мужчиной моей жизни, которого я, увы, встретила слишком рано — на десять лет!
В августе Сэми уехал на несколько дней с Паскаль Одре. Мы начали снимать сцены суда, в которых он не участвовал, так как я его убила.
Эти сцены давались особенно трудно.
За стенами павильона стояла прекрасная погода, август; хотелось каникул, простора, песка и солнца. А в «зале суда» было душно, пахло потом, раскаленной резиной и табачным дымом. Я по-настоящему входила в роль. Мне уже казалось, что это суд надо мной. Речь шла о моей дурной репутации, о моем скандальном поведении, о моем непостоянстве и полном отсутствии нравственных устоев. Беспутная жизнь, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе, любовники — все это было так же применимо к Брижит Бардо, как и к Доминике Марсо, героине фильма.
Клузо каждый день подливал масла в огонь, проводя отчетливые параллели между моей жизнью и жизнью моей героини. Я ведь оставила мужа и ребенка, а мой любовник на данный момент оставил меня. Я — олицетворение разврата, я всеми презираема, я одна, одна, одна! Подавленная, целыми днями в слезах, я терпела пытку этой двусмысленной ситуации. Мне предстояло произнести длинный монолог, очень искренний и трогательный. Это было мое последнее слово, последняя отчаянная попытка смягчить сердца присяжных.
Зал был битком набит статистами. Суд в полном составе, присяжные, адвокаты, полицейские, судебные исполнители.
Все ждали моего выхода!
Клузо подошел поговорить со мной.
Текст я знала назубок, но если вдруг что-то забуду, это неважно, надо продолжать, импровизировать, говорить своими словами, своим нутром. Он крепко сжал мои руки и сказал, что это будет лучшая сцена в фильме, что я должна им всем показать, на что способна, своей искренностью взять верх над их мастерством, и пусть утрутся все эти остолопы, что смотрят на меня.
«Мотор!» «Съемка!» «Пошла!»
Я помедлила секунду или две. Я смотрела на них, на всех этих людей, судивших меня за то, что я посмела жить!
Потом зазвучал мой голос. Надломленный, хриплый, сильный. Я им сказала, я им всем сказала все, что накипело на сердце. Я плакала, слабела от слез, мой голос срывался, но я договорила до конца и рухнула без сил на скамью, уронив голову на руки, во власти самого настоящего безысходного горя.
На мгновение воцарилась тишина, потом Клузо крикнул: «Снято!»
И тогда весь зал суда зааплодировал мне, судьи были взволнованы, присяжные потрясены. Это было одно из самых сильных переживаний в моей жизни. Я была опустошена, выложилась до донышка, но сцена получилась.
Я победила.
Клузо был доволен, Ванель горд мной, Дедетта роняла слезы в пуховку. Рабочие говорили мне: «Слушай, и впрямь пробрало, а мы уж всякого насмотрелись!» Я не могла спасти жизнь Доминики Марсо, зато спасла свою репутацию актрисы.
А между тем я никогда не была актрисой. Я никогда не влезала в шкуру моих героинь — я натягивала на героинь мою шкуру. Существенная разница.
Потом снимали сцену самоубийства Доминики Марсо в камере женской тюрьмы «Рокетт».
Мое отчаяние достигло предела!
Клузо сознательно держал меня в состоянии глубокой депрессии. Жизнь лишена смысла, люди — чудовища, род человеческий — мразь, только смерть может дать долгожданный покой и отдохновение. Я разбивала зеркальце своей пудреницы и осколком вскрывала вены. Бледная, исхудавшая, полубезумная... я должна была изо всех сил надавить стеклом на левое запястье, одновременно сжав в руке резиновую грушу с гемоглобином. Я почувствовала, как липкая теплая жидкость течет по руке. Было полное ощущение, что я и вправду покалечила себя, и слезы сами брызнули из моих глаз, которые постепенно закатывались, и в конце эпизода мое безжизненное тело оставалось неподвижно лежать на тюфяке.