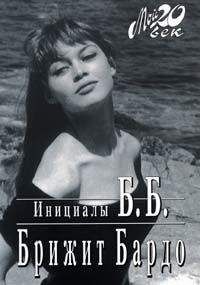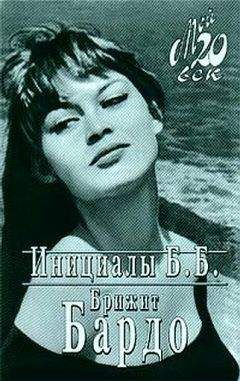Потом снимали сцену самоубийства Доминики Марсо в камере женской тюрьмы «Рокетт».
Мое отчаяние достигло предела!
Клузо сознательно держал меня в состоянии глубокой депрессии. Жизнь лишена смысла, люди — чудовища, род человеческий — мразь, только смерть может дать долгожданный покой и отдохновение. Я разбивала зеркальце своей пудреницы и осколком вскрывала вены. Бледная, исхудавшая, полубезумная... я должна была изо всех сил надавить стеклом на левое запястье, одновременно сжав в руке резиновую грушу с гемоглобином. Я почувствовала, как липкая теплая жидкость течет по руке. Было полное ощущение, что я и вправду покалечила себя, и слезы сами брызнули из моих глаз, которые постепенно закатывались, и в конце эпизода мое безжизненное тело оставалось неподвижно лежать на тюфяке.
Вот в таком состоянии со знаком минус я снова встретилась с Сэми.
Он порвал с Паскаль Одре. Вернувшись, он нашел дома повестку и должен был в конце сентября отправиться в армию. Через год после Жака, день в день. Все правильно — он был на год младше!
Ну почему эта проклятая воинская служба так неотступно преследовала меня? Да потому что я, сама того не ведая, всегда выбирала мужчин моложе себя!
Жак почти не жил дома, то уходил, то приходил без всяких объяснений. Я их, впрочем, и не требовала.
Дани, моя дублерша в «Истине», жила в прекрасной квартире на бульваре Сен-Жермен. Она сама любезно предложила мне приютить нас с Сэми, чтобы мы могли спокойно побыть вдвоем.
Однажды вечером мы вышли из студии, собираясь ехать прямо к Дани, — и каково же было наше удивление, когда мы увидели Жака, поджидавшего нас у входа. Прямой удар в челюсть Сэми был его первым словом. Тут же как из-под земли появились репортеры, не меньше десятка, и защелкали фотоаппаратами! Жак схватил меня за руку выше локтя и не отпускал, а Сэми за другую руку тащил к машине. Двое мужчин разрывали меня на глазах у фотографов, которые уж отвели душу. Моя сумочка упала, Жак наклонился, чтобы поднять ее, а я, воспользовавшись этим, кинулась со всех ног к машине, оставив ему сумочку со всеми документами, с деньгами, с письмами Сэми. Жак бросился за нами, еще раз ударил Сэми через открытое окно машины... Мерцали вспышки, толпа загородила нам дорогу. У Сэми текла кровь, заливала глаз, надо было ехать очень осторожно, чтобы не задавить кого-нибудь из падких до скандала зевак, теснившихся вокруг машины. Мы поехали прямо, куда глаза глядят. Свежий ночной ветерок обдувал нас, стало полегче.
* * *
Мы с Сэми мечтали об одном — умереть!
Только смерть могла стать нашей избавительницей. Мы были сыты по горло обществом с его законами и запретами. Мы любили друг друга наперекор всему и не находили себе места в этом обществе, которое отвергало нас.
Сэми пора было уезжать в армию!
Оставшись одна на Поль-Думере, я по-прежнему целыми днями спала, укрываясь от действительности. Мама, встревоженная моим подавленным состоянием, сказала, что мне нужно переменить обстановку. Она договорилась с Мерседес, подружкой Жан-Клода Симона, и отправила нас вдвоем в Ментону, в уединенный дом, который любезно предоставили в наше распоряжение друзья Мерседес.
Мама решила, что там мне будет спокойнее.
В доме не было телефона, не было горничной. Я дала себя перевезти, как мебель. Ничего не ела, ни на что не реагировала, не хотела видеть даже море, отворачивалась от солнца, лежала в постели, а время шло.
28 сентября, в день моего рождения, Мерседес вернулась из поселка без почты — никакой весточки от Сэми не было в почтовом ящике, который она абонировала на мое имя. Глядя в никуда, в пустоту моей души, я ждала, когда пройдет этот день, мой двадцать шестой день рождения. Часов в шесть вечера Мерседес откупорила бутылку шампанского и пожелала мне «много счастья в день рождения».
Мои слезы капали в бокал и поднимались пузырьками.
Мне хотелось остаться одной. Я устала, я лучше посплю...
Как только Мерседес уехала к своим друзьям, я прикончила шампанское, запивая каждым глотком таблетку имменоктала. Как раз хватило на всю упаковку. Я твердо решила умереть. Я вышла из дома, ночь была теплая. В правой руке я сжимала бритву, которой собиралась вскрыть себе вены. Я шла в темноте наугад и остановилась у загона для овец. От барашков хорошо пахло, они тихонько блеяли. Я села на землю и изо всех сил прижала лезвие к одному запястью, потом к другому. Было совсем не больно. Я легла среди барашков и увидела над собой звезды. Мне стало хорошо и спокойно: сейчас я сольюсь с землей, которую всегда так любила.
Мерседес тем временем замучила совесть: она только выпила с друзьями стаканчик и уехала домой. Не найдя меня она пошла к ближайшим соседям, фермерам, спросить, не видел ли кто молодую светловолосую женщину. И тогда все семейство, вооружившись электрическими фонарями, отправилось искать меня по окрестностям.
Когда меня нашли, я еще дышала, но очень слабо — лежала в глубокой коме, вся перепачканная кровью и землей.
48 часов спустя в больнице Святого Франциска в Ницце сознание мало-помалу вернулось ко мне.
Я лежала, связанная по рукам и ногам, на реанимационном столе, вся в каких-то трубках; я приходила в себя, и с каждой секундой все невыносимее становилась боль. Я была одна, предоставленная самой себе в этой стерильной палате, и мои слабые стоны никому не были слышны. Врачи сочли меня сумасшедшей и препоручили психиатрам.
На меня надели смирительную рубашку!
Мне делали рентген черепа, электроэнцефалограммы... Я по-прежнему была привязана к столу пыток, все тело у меня ныло, и я билась, спасаясь от судорог и боли, которые бывают от долгого неподвижного лежания на железе. Приезд мамы положил конец этим мучениям. Я получила наконец право на нормальную палату, кровать и почти человеческое обращение. Однако меня запирали на ключ, а окно было зарешечено.
Пускали ко мне только маму. Часами она сидела у меня, и мы обе молчали. Я знала, какую боль ей причинила, но мне самой было так тяжело, что я не могла попросить прощения.
Я была наказана за попытку убить себя: меня заперли, со мной обращались как с помешанной, не признавая никаких смягчающих обстоятельств. Регулярно приходил психиатр и задавал мне безжалостные вопросы о том, что я сделала! Я очень скоро поняла, что следует во всем с ним соглашаться, иначе я рискую остаться здесь на веки вечные. Еще я узнала, что больница окружена фоторепортерами. Осада продолжалась с того дня, как меня привезли сюда, и мою палату запирали именно для того, чтобы кто-нибудь меня не щелкнул. Медсестры рвали друг у друга из рук «Франс-Диманш» и «Иси-Пари», где новость о моем самоубийстве красовалась крупными буквами на первых полосах. Меня подняли на смех — ведь у меня хватило наглости не умереть.