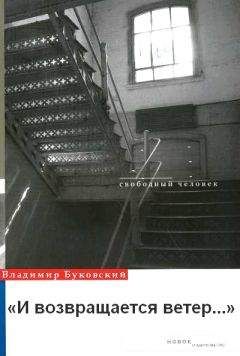Но, видимо, одного взгляда на меня было теперь достаточно, чтобы понять ошибку. Я настолько излучал ненависть, настолько явно жаждал их растерзать, что спрашивали больше для формальности. Не помню точно, что я тогда ответил генералу, — что-то очень обидное насчет их деятельности при Сталине. А за недостатком иных, более эффективных средств уничтожения изъяснялся я таким отборным русским языком, что он только головой покачал и подписал ордер. Помню, вернувшись в камеру, был я очень собой недоволен. Такой уникальный случай — живой генерал КГБ. Столько можно было ему наговорить — всю жизнь помнил бы. Дня три потом переживал я эту сцену заново и так вошел в роль, что, когда меня вызвал следователь на допрос, я ему выдал самый лучший вариант. И все-таки, вернувшись в камеру, был опять собой недоволен.
Примерно через месяц перевезли меня в Лефортово.
Кроме старого дела о Маяковке, обвиняли меня в «хранении и изготовлении с целью распространения антисоветской литературы» — двух неполных фотокопий книги Джиласа. Наличие цели распространения вытекало из того факта, что я пытался сделать две копии, а не одну.
Я наотрез отказался с ними разговаривать и за все время подписал только один протокол — о своем отношении к коммунистической власти и к КГБ. Там же я написал, что не поручал им решать, какие книги мне читать, а какие — нет. И уж потом, сколько ни уговаривали меня следователи, сколько ни кричали, ни стучали кулаками об стол, — ничего не подписывал. Показывали какие-то фиктивные протоколы, якобы чьи-то показания против меня, обещали сгноить, заслать куда Макар телят не гонял — я молчал. Не били, правда, но, думаю, и это не помогло бы. Слишком я был на них зол.
«Ничего, — думал я. — Дайте только до суда дотянуть. Там я вам все выложу. Пожалеете, что связались». На допросы меня почти перестали вызывать — смысла не было. «Понимаешь, — грустно говорил под конец следователь, — мне ведь неприятно, что дело не клеится, ну, так же, как, скажем, художнику неприятно, если у него картина не выходит».
Мне кажется, всю свою жизнь я провел в Лефортове. Засыпал — и только грезилось мне, что я на воле, дома. Просыпался — вновь лефортовские стены. Все начинания и надежды, все оттепели и заморозки кончились в лефортовской камере и начинались в ней. Примерно каждые три года, точно взмахами маятника, забрасывало меня сюда: в 63-м, 67-м, 71-м, 73-м и вот теперь в 76-м. Вся история схватки медведя с колодой.
Сюда привозили меня с воли, только что выловленного, еще тепленького, полного впечатлений. Здесь каждый раз я подводил итоги, мучился по ночам, что опять ничего не успел, вспоминал детство, отсыпался после лихорадочной жизни на «свободе». Здесь видывал я самую последнюю ступень человеческой подлости и самую отчаянную честность. Здесь же впервые построил свой замок, заложив его фундамент. Сюда меня привезли в 73-м году из Владимира, отощавшего и одуревшего, надеясь заставить раскаяться, отречься.
Начальник тюрьмы полковник Петренко приходил ко мне по вечерам под хмельком, как старый приятель.
— Ну вот, скажите, — спрашивал он, — вы теперь все тюрьмы видели и лагеря, можете сравнить. Скажите им: как я кормлю, а?
И, услышав похвалу лефортовской кухне, расплывался в улыбке.
— Знаете, — говорил он, — мне хочется взять вас за руку и провести по всем камерам, чтобы вы это всем повторили. А то у меня сидят сейчас прокуроры, за взятки. Они вчера на воле шашлык по-карски ели и то морщились, ну, и теперь овсяную кашу есть не хотят — жалуются! Нет, не та стала Лефортовская тюрьма, не то время. Вот он, — тут он тыкал пальцем в грудь угрюмого корпусного, стоявшего рядом навытяжку, — он еще помнит, что здесь делалось в старое-то время. А теперь — не то!
Действительно, при Сталине было Лефортово пыточной тюрьмой. «Что, в Лефортово захотел?» — зловеще говорил следователь упрямому арестанту, и у того обрывалось сердце — что угодно, только не Лефортово! Здесь же, в подвалах, убили Ежова — и на время прекратились пытки. Но только на время.
Здесь всегда хотели от людей только одного — раскаяния. Оттого, верно, сами стены Лефортовской тюрьмы пропитаны покаянием. Кряхтят, ворочаются арестанты, не могут уснуть: все постыдное, что совершилось в их жизни, напоминает им тюрьма.
Я всегда каялся в Лефортове, только не в том, за что был арестован, не так, как хотели следователи, да и не перед ними. Все, в чем я мог упрекнуть себя, неизменно лезло в голову.
В тот первый раз, в 63-м году, вспоминал я почему-то зайца, которого убили мы в Сибири, в экспедиции. Дело было ночью, машина шла под уклон, с горы. Только что прошел дождь, и дорога размякла, расквасилась глина. Вдруг сбоку выскочил заяц, пробежал метров десять в свете фар и сел на дорогу. Сел, съежился и закрыл голову лапами, точно зажмурился от страху.
— Ага! Дави его, зайца! Дави! — закричали мы. — Будет на ужин зайчатина.
И через секунду стукнуло что-то снизу об машину. Съехав с горы, мы вернулись за зайцем. Вскоре он уже варился в ведре. Ребята смеялись надо мной, но я не мог его есть. Не знаю, почему, но я вдруг понял, что изменится теперь моя жизнь. Раньше мне все сходило с рук, больше этого не будет.
За этого-то зайца, выходило, и сидел я теперь в Лефортове, потому что вспоминался он мне чаще всего и никакие оправдания не помогали. Я не убивал его, да и склон был крутой, глинистый, после дождя, затормозить было нельзя. Но я хотел ему смерти, всего только секунду хотел, и этого было достаточно. Случалось мне потом убивать на охоте птиц, да и зайцев тоже — их я никогда не вспоминал.
Сам вид Лефортовской тюрьмы, ее К-образная форма, сетки вместо перекрытий между этажами, так что корпусной за своим столом в центре мог постоянно видеть всех надзирателей и все коридоры, таинственное цоканье языком, принятое надзирателями как условный сигнал, когда они ведут заключенного, — все это поразило меня в тот первый раз.
Режим тогда был не то, что сейчас. Следственным не полагалось иметь ни карандаша, ни бумаги, не давали газет. Даже календаря в камере не было, и счет дням, чтобы не сбиться, приходилось вести очень своеобразно. Висели в камере на стене «Правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах КГБ». Слово ПРАВИЛА было напечатано крупным шрифтом сверху, как раз под веревочкой, на которой они висели. И вот это слово служило календарем. В нем ровно семь букв, и если повесить клочок бумаги на эту веревочку, а затем каждый день передвигать его так, чтобы он закрывал одну букву, то можно было отсчитывать дни недели: П — понедельник, Р — вторник, А — среда… Тяжелее всего было, что не разрешали спать днем. Поднимут в 6 часов утра, и весь день сиди на табуретке. Только начал задремывать — стучит в дверь надзиратель: «Не спать! Спать не положено!»