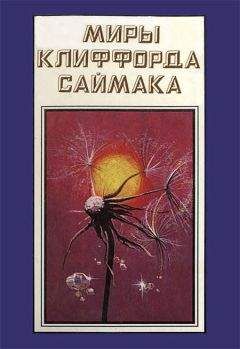Утром 27-го ноября, мне стало лучше, но я сильно ослабел. В этот день Император перешёл через Березину с частью Гвардии и, приблизительно, с тысячей солдат корпуса маршала Нея. Наш полк пока оставался на этом берегу. Я услышал, что кто-то зовёт меня по имени, оглянулся и узнал Пеньо, Начальника Императорской почты. Найдя мой полк, он спрашивал обо мне. Ему сообщили, что я болен. Он пришёл не для того, чтобы оказать мне помощь – у него у самого ничего не было – а чтобы подбодрить меня. Я поблагодарил его за участие, прибавив, что мне, кажется, не суждено ни переправиться через Березину, ни увидеть Францию, но если ему больше повезёт, я прошу его рассказать моим родным, в каком печальном положении он меня видел. Пеньо предлагал мне денег, но я отказался. У меня было восемьсот франков, и всю эту сумму я охотно отдал бы за ту лепёшку, и за тот картофель, которым я угощался у себя дома, в своём сне.
Перед расставанием Пеньо показал мне дом, где жил Император, добавив, что раньше там размещался мучной склад. Но, к несчастью, русские всё оттуда вынесли, так что ему нечего мне предложить. Затем, Пеньо пожал мне руку и зашагал по мосту.
Через некоторое время после его ухода я вспомнил, что он говорил что-то о муке в доме, где ночевал Император, и хотя я страшно ослаб, кое-как побрёл туда. Император совсем недавно покинул этот дом, а все двери в нем уже поснимали. Дом состоял из нескольких комнат, я осмотрел их. По всем признакам было ясно, что тут хранили муку. В одной из комнат между досками пола я заметил широкие щели – более пуса. Я уселся на пол и остриём сабли принялся выковыривать остатки просыпавшейся муки, перемешанной с землёй, и тщательно собирать её в платок. Через час я собрал, по крайней мере, фунта два, причём примерно, восьмая часть состояла из смеси земли, соломы и опилок. Не беда! Я был так счастлив! Направляясь в сторону нашего бивуака, я увидел костёр, вокруг которого грелось несколько солдат Гвардии. С ними сидел один из наших полковых музыкантов, к его ранцу была привязана оловянная миска. Я поманил его к себе, но поскольку тот не очень-то хотел покидать своё место, я показал ему свой узелок, давая понять, что тут что-то есть. Он с трудом встал, подошёл ко мне, и я тихо сказал ему, что если он одолжит мне свою миску, я напеку лепёшек и поделюсь с ним. Он немедленно согласился. Костров вокруг было много, мы выбрали самый дальний. Я замесил тесто и испёк четыре лепёшки. Две я отдал музыканту, а потом мы вернулись в полк. Там я поделился с теми товарищами, которые помогали мне идти, а поскольку лепёшки были ещё горячие, то все единодушно признали их очень вкусными. Запив нашу трапезу мутной водой Березины, мы продолжали сидеть и греться у костра в ожидании приказа переходить реку.
Один из солдат нашей роты, тоже сидевший у этого костра, надел свой парадный мундир! Я спросил его, зачем? Вместо ответа солдат расхохотался. Этот человек был болен, его смех был смехом смерти. В ту же ночь он умер.
Немного подальше сидел старый солдат с двумя нашивками, это означало, что он прослужил пятнадцать лет. Его жена была маркитанткой. Они потеряли все – повозки, лошадей, багаж и двоих детей, погибших в снегу. У бедной женщины оставалось только её отчаяние и умирающий муж. Несчастная, ещё не старая женщина, сидела на снегу, держа на коленях голову своего умирающего мужа. Она не плакала, её горе было слишком глубоко. Позади, прислонясь к её плечу, стояла девочка лет тринадцати, их единственный, оставшийся в живых ребёнок. Бедняжка громко рыдала, её слезы капали и превращались в льдинки на холодном лице её отца. Она была одета в солдатский плащ, накинутый поверх рваного платья. Сверху на ней был ещё тулуп, чтобы спастись от холода.[67] Из их полка в живых не осталось никого, кто мог бы их поддержать и утешить. Мы сделали для них всё возможное при подобных обстоятельствах, но я так и не узнал, удалось ли им спастись. Впрочем, куда ни глянь, подобные сцены можно было наблюдать повсюду. Повозки и фургоны подвозили нам сухое дерево, чтобы поддержать огонь, мы не отказывались от этой возможности. Друзья принялись расспрашивать меня, как я провёл те три дня, пока отсутствовал. А потом они рассказали мне, что 23-го ноября, когда они шли по лесной дороге, им встретился 9-й корпус, марширующий строем по обочине, и кричавший: «Да здравствует Император?» Они пять месяцев не видели Императора. Этот армейский корпус, почти не пострадавший и никогда не терпевший недостатка в продовольствии, был поражён нашим жалким видом, а мы удивлялись, видя, как бодры его солдаты.
Они не могли поверить, что мы и есть армия, взявшая Москву, та самая армия, которую они видели такой блестящей, такой многочисленной, а теперь – жалкой и оборванной!
2-го корпуса маршала Удино, 9-го корпуса маршала Виктора, герцога Беллунского, и Польского, под командованием генерала Домбровского в Москве не было – они стояли в Литве на квартирах, но в последнее время сражались с русскими, отражали их атаки и брали богатую добычу. Однако при отступлении русские сожгли мост, – единственный, существовавший через Березину, и мы оказались заблокированными между двумя лесами и болотом. Здесь находились солдаты разных национальностей – французы и итальянцы, испанцы и португальцы, хорваты и немцы, поляки, румыны, неаполитанцы и даже, пруссаки. Я видел как мужчины-маркитанты, видя, в каком отчаянном положении оказались их жены и дети, плакали навзрыд. Отмечали, кстати, что мужчины оказались менее выносливы к страданиям, и нравственным, и физическим, чем их жены. Я видел женщин, с изумительной стойкостью переживавших все беды и лишения. Некоторые из них даже стыдили мужчин, не умевших мужественно и с достоинством переносить выпавшие на их долю жестокие испытания. Из таких женщин погибли очень немногие, разве что утонувшие в Березине, или раздавленные толпой.
С наступлением ночи воцарились покой и тишина. Каждый удалился на свой бивуак и, странное дело, никто больше не изъявлял желания перейти через реку – просто удивительно! Всю ночь с 27-го на 28-е ноября мост пустовал. У нас был хороший костёр, и я спокойно заснул, но посреди ночи меня опять начало лихорадить, я бредил. Проснулся от звуков ружейной стрельбы около семи часов утра. Я встал, взял своё ружье и, никому не сказав ни слова, подошёл к мосту и спокойно перешёл по нему. Я не встретил ни души, кроме понтонёров, ночевавших на обоих берегах, чтобы в случае необходимости выполнить ремонтные работы.
Очутившись на той стороне, я увидал справа большой дощатый сарай. Там ночевал Император, и в тот день он все ещё находился там. Меня бил лихорадочный озноб, и я подошёл погреться у костра, вокруг которого сидели офицеры, занятые изучением карты, но меня приняли так недружелюбно, что пришлось уйти. Тут ко мне подошёл солдат из нашего полка и сообщил, что наш полк только что переправился и расположился в боевом порядке во второй линии, позади корпуса маршала Удино. Когда загремели пушки и вокруг меня посыпались ядра – вот тогда я решил присоединиться к полку. Рассудив, что лучше умереть от пули, чем от холода и голода, я направился в сторону леса. По дороге я встретил нашего капрала. Он шёл с большим трудом. Вместе, поддерживая друг друга, мы добрались до полка. Здесь был костёр, капрал весь трясся от лихорадки, я подвёл его к огню. Но едва мы устроились, как просвистело ядро, попало моему несчастному товарищу прямо в грудь и сразило его наповал. Я не смог сдержать слез: «Бедный Марселен! Тебе хорошо теперь!» В ту же минуту пронёсся слух, что ранен маршал Удино.