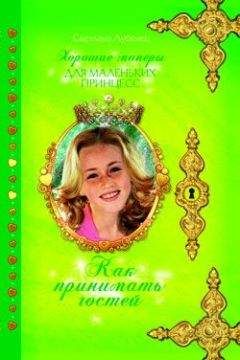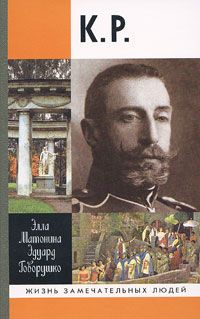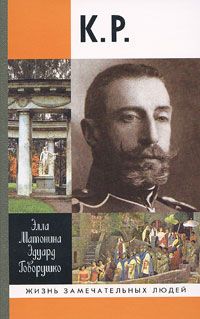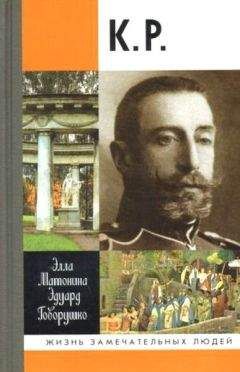несовпадениями. Но следует заметить, большинство знаменитых детей делятся своими лаврами только с матерью, к ее ногам кладут их. И лучшего итога быть не может.
У Лидии Стахиевны сложилась своя судьба, в которой не было цельности, но было многообразие. Она могла вспоминать лица, характеры и поступки тех, кто встретился на жизненном пути, кто любил ее, звал в жены или был нежен и терпелив в дружбе, кто щедро делился своим божественным даром: Шаляпин, Собинов, Мамонтов, Левитан, Качалов, Станиславский, Фигнер, Эберли, Шехтель… Сейчас она может позволить себе погрузиться в тот мир, в котором, за давностью его, можно перебирать, встряхивать, как жемчужные горошины, воспоминания. В них лишь одно лицо являлось ей особняком – лицо Чехова. И она вновь и вновь задавалась тем же вопросом: почему он выбрал не ее, свою долгую, ласковую привязанность?
Из всей кипы писем она особенно любила два письма Чехова. Помнила их наизусть. В одном, присланном из Ялты осенью, за три года до его женитьбы, были знаковые слова: об «актрисочках», о «просьбах, которые остаются всегда без удовлетворения», о женитьбе. Почувствовать бы ей это тогда!
«Милая Лика! Вы легки на помине. Здесь концертируют Шаляпин и С. Рожанский, мы вчера ужинали и говорили о Вас. Если бы Вы знали, как я обрадовался Вашему письму! Вы жестокосердечная, Вы толстая, Вам не понять этой моей радости. Да, я в Ялте и буду жить здесь, пока не выпадет снег. Из Москвы не хотелось уезжать, очень не хотелось, но нужно было уезжать, так как я все еще пребываю в незаконной связи с бациллами – и рассказы о том, будто я пополнел и даже потолстел, это пустая басня. И то, что я женюсь, тоже басня, пущенная в свет Вами. Вы знаете, что я никогда не женюсь без Вашего позволения. Вы в этом уверены, но все же пускаете разные слухи – вероятно, по логике старого охотника, который сам не стреляет из ружья и другим не дает, а только ворчит и кряхтит, лежа на печке. Нет, милая Лика, нет! Без Вашего позволения я не женюсь, и, прежде чем жениться, я еще покажу Вам кузькину мать, извините за выражение. Вот приезжайте-ка в Ялту!
Буду с нетерпением ожидать от Вас письма и карточки, где Вы, как пишете, похожи на старую ведьму. Пришлите, милая Лика, дайте мне возможность увидеть Вас хоть на карточке. Увы, я не принадлежу к числу «моих друзей» и все мои просьбы, обращенные к Вам, всегда оставались без удовлетворения. Своей фотографии послать Вам не могу, так как у меня ее нет и не скоро будет. Я не снимаюсь.
Несмотря на строгое запрещение, в январе, должно быть, я уеду в Москву дня на три, иначе я повешусь от тоски. Значит, увидимся? Тогда привезите мне 2–3 галстука, я заплачу Вам.
Из Москвы я поеду во Францию или Италию. У Немировича и Станиславского очень интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я остался еще немного, то потерял бы голову. Чем старше я становлюсь, тем чаще и полнее бьется во мне пульс жизни. Намотайте это себе на ус. Но не бойтесь, я не стану огорчать «моих друзей» и не осмелюсь на то, на что они осмеливались так успешно.
Еще раз повторяю: Ваше письмо меня очень, очень порадовало, и я боюсь, что Вы не поверите этому и не скоро ответите мне. Клянусь Вам, Лика, что без Вас мне скучно.
Оставайтесь счастливы, здоровы и в самом деле делайте успехи. Вчера за ужином Вас хвалили как певицу. И я был рад. Храни Вас Бог.
Ваш А. Чехов».
После славного осеннего он пишет ей весеннее письмо. И осень, и весна превосходны в Ялте. Разве не так?
«Милая Лика… Здесь в Крыму так хорошо, что уехать нет никакой возможности. Мне кажется, было бы лучше, если бы Вы, вместо того, чтобы поджидать меня в Париже, сами приехали в Ялту, здесь я показал бы Вам свою дачу, которая строится, покатал бы Вас по южному берегу и потом вместе отправились бы в Москву.
Новость!! Мы, по-видимому, опять будем жить в Москве, и Маша уже подыскивает помещение. Так и решили: зиму в Москве, а остальное время в Крыму. После смерти отца Мелехово утеряло для матери и сестры всякую прелесть и стало совсем чужим, насколько можно судить по их коротким письмам!
В самом деле, подумайте и приезжайте 10–15 апреля старого стиля. Если надумаете, то телеграфируйте мне только три слова: Jalta. Tchekhoff. Trois, то есть что третьего апреля Вы приедете. Вместо trois, поставьте 8,4… или как хотите, лишь бы я приблизительно знал день, когда Вас ждать. С парохода приезжайте прямо на Аутскую, дача Иловайской (извозчик 40 коп.), где я живу; потом вместе поищем для Вас квартиру, потом пошлем на пароход за Вашим большим багажом, потом будем гулять (но вольности Вам я никакой не позволю), потом уедем вместе в Москву на великолепном курьерском поезде. Ваш путь: Вена, Вологинск, Одесса, отсюда на пароходе – Ялта. Из Одессы пришлете телеграмму: “Ялта. Чехову. Еду". Понимаете?
Купите мне в Лувре дюжину платков с меткой А, купите галстуков – я заплачу Вам вдвое.
Как вы себя ведете? Полнеете? Худеете? Как Ваше пение? Будьте здоровы, прелесть, очаровательная, восхитительная, крепко жму руку жду скорейшего ответа.
Ваш А. Чехов».
В этом мартовском письме прочитывалось все потаенное, глубинное, близкое и серьезное, что было в их отношениях. А сколько нетерпения, настойчивости, почти мольбы…
Но вот уже в июле он пишет письмо другой женщине: «Да, Вы правы: писатель Чехов не забыл актрисы Книппер. Мало того, Ваше предложение поехать вместе из Батума в Ялту ему кажется очаровательным. Я поеду, но с условием, во 1-х, что Вы по получении этого письма, не медля ни одной минуты, телеграфируете мне приблизительно число, когда Вы намерены покинуть Мцхет… Во 2-х, с условием, что я поеду прямо в Батум – и встречу Вас там, и, в 3-х, что Вы не вскружите мне голову…»
Он лукавил: кружение головы началось раньше, гораздо раньше, когда он посмотрел в Художественном театре «Царя Федора Иоанновича». «Меня приятно тронула интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему (ее играла Книппер), великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется. Лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину», – писал он Суворину. И