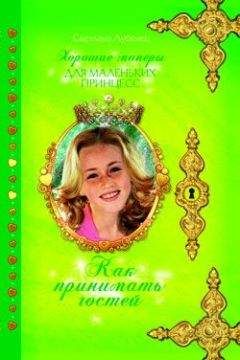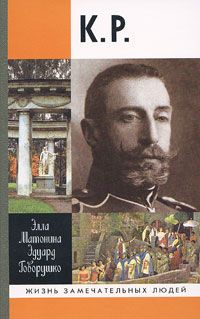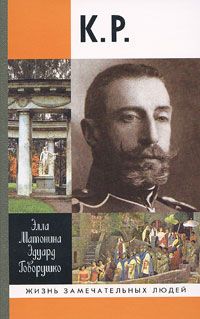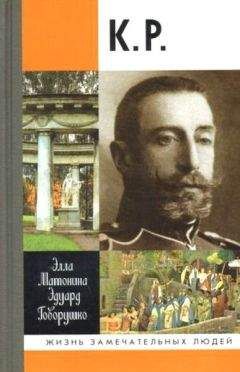из писем Чехову она дала понять, что узнает себя в несимпатичном портрете героини. Но зачем было так стараться: не будут же на нем, как на портрете Дориана Грея, уродливо и страшно отражаться ее проступки и дурной характер?
Она и сейчас готова была поспорить с милым ее душе автором. Конечно, не с дифирамбами ей: «…была она дивно красива, ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, и душевный склад ее отличался богатством оттенков». Но ее раздражали в герое «Ариадны» флегматичность, привязанность к тихим занятиям, удочка в руке, корзинка для грибов, гуляние по аллеям сада. Многие говорили о флегматичности, неподвижности самого Чехова. Кто-то обмолвился, что у него было много свободного времени и он скучал. Слова «скука» и «праздность» весьма частые в его обиходе: «я злился и скучал», «в случае скуки камо пойду», «жениться я не прочь, становится скучно», «хочу быть праздным». О себе в 39 лет сказал: «Я теперь подобен заштатному городу, в котором застой дел полнейший». Не раз она его звала то на Кавказ, то в Париж, то в Швейцарию, даже в Москву – всего-то из Мелехова.
И потом с обидой упрекала, что его не сдвинешь с места, что он любит, чтобы другие приложили усилия к делу. «Придите к нам, хорошая Лика, и спойте. Нет возле меня человека, который разогнал бы мою скуку». Вот так! Увеселение с доставкой на дом!
Не умел он безумствовать, делать ошибки, увлекаться, страдать. А она считала, что мужчине положено быть таким. Тогда и не придется упрекать женщину в холодности, непоэтичности, в неумении быть страстной.
Сейчас, спустя годы, ей представлялось, что их многолетний, мучительный роман оброс житейской прозой, увяз в мелочах, никуда не двигался, ничем не одушевлялся… А может, он прав? Были они ослабевшим, опустившимся поколением неврастеников, нытиков и кисляев? Ох уж это слово – «кисляй», «киснуть», «скисла»! Не слово, а эпоха! Странно, что оно не прозвучало в «Чайке». Было бы весьма уместным…
Могла его сказать и Маша в «Трех сестрах»… Но нет, в пьесе упомянуто другое: зеленый пояс на розовом платье как пример безвкусицы. Гардероб «милой Лики» стал литературной добычей. Она любила зеленые и желтые ленты. Над этим пристрастием смеялись, сплетничали. И он тоже сплетничал.
Как жаль, что у нее не хватило смелости однажды сказать ему: «Пожалуйста, не пишите обо мне. Мы дружим, привязаны друг к другу. Оставьте нашу дружбу свободной от подсматривания и наблюдений. Я – не подручный материал… Это больно. Особенно если ты не идеал».
В конце концов он признался: «Наружность ее я знал хорошо и ценил по достоинству, но ее душевный, нравственный мир, ум, миросозерцание, частые перемены в настроении, ее ненавидящие глаза, высокомерие, начитанность, которою она иногда поражала меня… все это было мне неизвестно и непонятно. Когда в своих столкновениях с нею я пытался определить, что она за человек, то моя психология не шла больше таких определений, как взбалмошная, несерьезная, несчастный характер, бабья логика – и для меня… этого было совершенно достаточно».
Но случалось так, что одних «признаний» оказывалось недостаточно. Приходилось оправдываться, объясняться. Иногда и «убивать» себя – конечно, в литературном произведении. Как бы наказывать за совершенный грех.
Так было в истории с первой невестой Антона Павловича.
Все друзья-приятели женились. Антон Павлович – шафер на трех свадьбах. Поветрие любви и жизненного устройства. «Нужно жениться. Если мне не найдут невесты – застрелюсь!» – то ли в шутку, то ли всерьез сказал он. Невестой стала подруга Маши Чеховой. Они учились вместе на женских курсах Герье. В свой день рождения – 17 января, – провожая девушку домой, Антон Павлович сделал ей предложение. «Хочу из огня да в полымя. Благословите жениться!» – просит он друга. Но не прошло и месяца, и он сообщает тому же другу: «С невестой разошелся окончательно. Вернее, она со мной разошлась. Но я револьвера не купил и дневник не стал писать». Она оставила красивого, тогда еще здорового, остроумного молодого человека. Восходящую звезду русской литературы.
Он написал в отместку рассказ «Тина». Даря напечатанное актрисе Каратыгиной, оставил автограф: «С живого списано». Списано было с красавицы с черными очами, темпераментной, эмансипированной, своевольной, своенравной Дуни Эфрос, дочери богатого адвоката, потомственного почетного гражданина Москвы. Трудно сказать, в чем заключался конфликт. Быть может, в том, что Дуня не хотела принять православие, или в том, что Чехова отталкивали устои старобуржуазной семьи невесты, или бесконечные ссоры и примирения, длившиеся полтора года, хотя решено было разойтись через месяц. Он понимал, что несхожесть характеров, мировосприятия, даже при сильном чувстве к экзотической Риве-Хаве (так называли Дуню Эфрос в кругу друзей Маши Чеховой), ни к чему хорошему не привели бы в их совместной жизни. Но отказ невесты ранил его самолюбие. «Я очень самолюбив», – не единожды говорил Чехов о себе.
Припомнилась его игра в слова о женитьбе: «не создан для обязанностей и священного долга», «оттого, что я женюсь, писать лучше не стану», «счастья, которое продолжается изо дня в день, я не выдержу», «жениться невозможно, потому что жены дарят мужьям ночные туфли».
На Дуне Эфрос он хотел жениться. Она ему отказала. Рассказ о героине с чертами Эфрос получился столь злым и ядовитым, что автора осудили близкие и знакомые. Родная сестра была возмущена и продолжала демонстративно дружить с Эфрос…
Лидия Стахиевна еще в Берлине купила книжку фельетонов некоего Жаботинского. И обнаружила, по ее мнению, верное замечание: мол, Чехов по сути своей был наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме красоты «вишневого сада», поэтому, мол, еврейские фигуры написаны им с обычным правдивым безразличием.
– Не знаешь, что выбрать, – проворчала Лидия Стахиевна, – «правдивое безразличие» или запоздалое чувство вины, извинение. Как и в истории с Потапенко, он боялся, что тот узнает себя в Тригорине, как в истории с Левитаном, смешной и милой художницей Кувшинниковой, толстым актером Ленским, так и в случае с Эфрос Антон Павлович доказывал, что его невеста не имеет отношения к героине «Тины».
Только передо мной не посчитал нужным оправдаться. Легкая добыча. И… перед Книппер. Но она, правда, не мелькнула ни в одном сюжете.
Зато он дарил ей роли. И среди них, как дивный цветок, обольстительную Машу в «Трех сестрах».
Женщина, подводя итоги, думает прежде всего о жизни сердца. Редко о карьере в общественном, художническом или научном служении. Есть еще «служение» детям, надежда видеть их особо одаренными. Это бесконечный труд души, с обидами, надеждами,