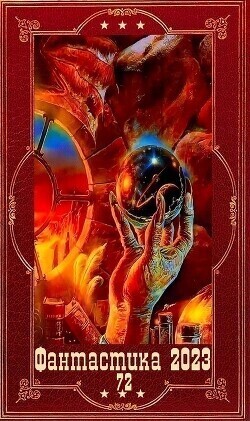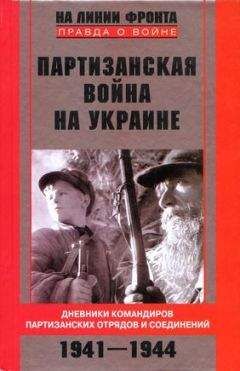минометы будут стоять батареей в одну линию: и мои, и степановские. А когда будем пристреливать, возьму карту у Вардарьяна. С рекогносцировки возвращались затемно, в том же порядке. Неприязнь и злоба душили меня. На сердце давило камнем. Хотелось вздохнуть полной грудью, а воздуха не хватало. Теперь солдатам станет известно, как обошелся с нами Старший. Его ординарец, его Сынок, присутствовал при этом. У мальчишки новенький ППШ, и он нагло посматривает на нас, на наши трехлинейки. Поужинав, я ушел дежурить на НП. На завтра назначена передислокация. А, пусть собираются без меня, как хотят. В холодной, сырой, снежной берлоге на переднем крае мне стало легче и отраднее, нежели в теплой землянке, под одной крышей со Старшим, его Сынком, с Шараповым и другими. Один Вардарьян – добрый, душевный малый, но и он под каблуком у Старшего. На сыром снегу полушубок быстро отволг, стало холодно, а согреться было негде.
4 марта. Еще до завтрака солдаты стали готовиться к переезду. Собирали скарб. Из березовых хлыстов, длинных и гибких, мастерили волокуши и грузили на них минометы и пожитки. Лошадей нет, и все нужно тащить на себе. Два толстых конца волокуши крепятся так, чтобы в них, как в оглобли, можно впрячься человеку или двоим; а тонкие концы, или хлысты, должны волочиться по земле. Середину волокуши заплетают прутьями, стягивают проволокой или телефонным кабелем, вставляют деревянные распорки и нагружают разного рода скарбом. Тут только стало мне ведомо, что, помимо личных вещей, оружия и боеприпасов, в подразделении, состоящем пусть из пяти человек, набирается уйма самого нужного и необходимого: лопаты, топоры, пилы, ведра, печка, одеяла, плащ-палатки, даже трофейные шинели, которые солдаты используют в непогоду. И все это нужно собрать, упаковать и перевезти на новое место.
В довершение всех неприятностей, обрушившихся на меня в тот день, старшина роты Путятин и сержант степа-новского взвода Сушинцев, опередив Шарапова, захватили на отведенной нам поляне единственный бугор, оставив нам низину. Шарапов, притащившийся последним со своими волокушами, разразился в мой адрес беззастенчивой бранью.
– Ты что, мать твою в душу так, – орал он на меня, не стесняясь ни солдат, ни офицеров, – все просрал! Тебя зачем на рекогносцировку посылали?! Ворон считать?! Старшина да Сушинцев бугор захватили. Степанов – он мужик хитрый. О своих позаботился. А ты чего смотрел? Теперь нам в низине воду хлебать, да?!
«Проклятье, – думал я про себя, – откуда мне знать, что помимо определения места расположения огневых позиций батареи и сектора обстрела, который мне и так остался не вполне ясен из-за отсутствия карты и схемы, я еще, оказывается, должен опередить Степанова и захватить какой-то там бугор в лесу на поляне».
Спиридонов слушал брань Шарапова молча, на меня не смотрел. А когда Шарапов выдохся, спокойно произнес:
– Будем, однако, с наростом рубить.
– Будем! – рявкнул Шарапов. И вдруг, будто вспыхнувшая последним пламенем догорающая свеча, выпалил: – Будет он тебе лес пилять! – И, кивнув в мою сторону, побежал куда-то прочь.
Это был уже явный намек на то, что здесь, во фронтовых условиях, при недостатке рабочей силы, я не имею морального права пользоваться привилегиями командного состава – осуществлять лишь общее руководство, а самому физически не работать.
Усталость, нравственная усталость, овладела мною, и я погрузился в состояние тихой духовной апатии. Сидя на сваленных в кучу пожитках, я мечтал лишь о том, как хорошо было бы теперь приткнуться куда-нибудь и заснуть. Солдаты, конечно же, убеждены в том, что если бы с ними был Вардарьян, то он наверняка бы не позволил Сушинцеву захватить бугор. Я лежал на ворохе трофейных одеял закрыв глаза. Слезы собственной беспомощности душили меня. Вдруг до меня долетел выкрик:
– Лейтенанта Николаева к командиру роты!
Оправив ремень, я подошел к Федорову, который что-то писал на клочке бумаги, положенном на полевую сумку.
– Забирайте оба взвода, свой и степановский, – сказал Старший не глядя на меня, – и отправляйтесь на старые огневые. Весь наличный запас мин должен быть перенесен на новое место.
Сказав положенное «есть», я отправился собирать людей. Почему он все-таки послал меня, а не Степанова и не Липатова? Так думал я, идя по направлению к старым огневым. Неужели же комроты не видел, как я устал и изнемог?!
Теперь-то я понимаю, почему такой опытный боевой командир, каким и был комроты Федоров, выбрал именно меня. Он отлично видел, в каком я пребывал состоянии, и знал, что мне необходим не отдых, не пребывание в состоянии уныния и жалости к себе, но работа – тяжелая и даже изнурительная работа, которая только и могла вывести меня из эмоционального шока.
Собрав людей, я отправился в путь. Расстояние от старых огневых до нового места, если мерить по прямой, тысяча шестьсот метров. Если же идти по тропе, то будет и два километра. Расстояние не дальнее. Первым рейсом мы обернулись быстро, засветло и без затруднений. Шло нас одиннадцать человек. Каждый нес на перевязи из ремня по шесть мин – это 21 килограмм 600 грамм. И только Зюбин тащил на спине ящик весом около сорока килограммов. Сложив мины на временной огневой, где на всякий случай установили минометы в боевой готовности, мы отправились за следующей партией.
Быстро темнело. Ранние зимние сумерки сменялись хмурым вечером, предвещавшим темную, мрачную ночь. Занятый своими томящими мыслями, я шел, не замечая того, что уж слишком принимаю влево, что уже давно потерял знакомую тропу и что все мы двигаемся по целине.
Ночь придавила нас гнетущей чернотою. Отсыревшая тьма, казалось, обволакивала нас не только вовне, но проникала и глубоко вовнутрь. Где, как, каким образом я потерял тропу и сбился на целину, сказать невозможно. Мы идем по глубокому, непролазному снегу. И я понимаю, что заблудился. Понимаю, что мы можем находиться уже где-то на территории противника. Но где?! Этого я, естественно, не знаю.
Небо затянуто тяжелыми, низкими тучами. А у меня с собой даже нет компаса! Дурак набитый, мальчишка, о чем ты думал?! По-настоящему стало страшно. Ты занят был своими собственными переживаниями. Ты, конечно же, не рассчитывал заблудиться. Но ты заблудился. А что, если ты уже в тылу немецкой обороны?! Ужас холодным потом пробежал между лопатками. Как ты теперь собираешься выводить доверенных тебе людей из западни, в которую ты вляпался?! Зловещий мрак роковой ночи уже вот-вот готов был согнуть, сломать и раздавить меня состоянием отчаянной безысходности и полной безнадежности. И тут, быть может впервые в жизни, неосознанно и робко, одними губами, одним вздохом, прошептал: «Господи! Помоги! Выведи!»
Не скажу,