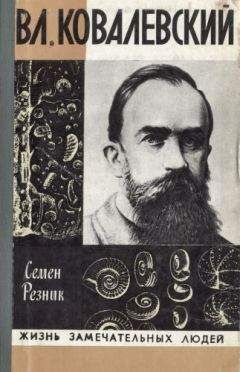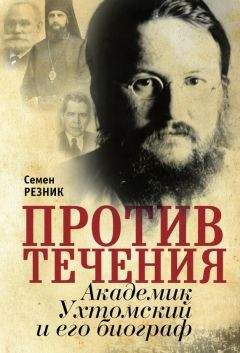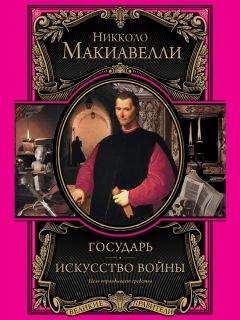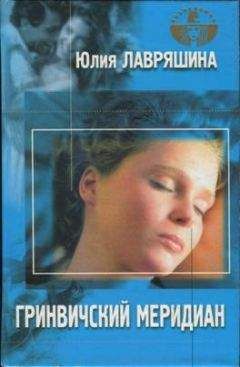При первом известии о том, что доступ в «успокоенный» город наконец возможен, Ковалевские собрались ехать, но их остановило полученное в тот же день письмо от Анюты: она и Виктор успели скрыться, друзья надежно спрятали обоих, непосредственной опасности нет. Но уже через день пришло новое письмо. И на этот раз — отчаянное. Виктора узнали на улице и арестовали. Ему грозил расстрел или, в лучшем случае, ссылка на долгие годы в Новую Каледонию — крохотную колонию где-то в южной части Тихого океана, превращенную французскими властями в каторжную тюрьму...
В тот же день Ковалевские выехали в Париж. А уже в дороге узнали из газеты новую, чуть не сразившую их весть — о том, что арестована и Анюта...
К счастью, сообщение оказалось ошибочным: за инсургентку Жаклар приняли другую женщину. Но полицейские ищейки вовсю охотились за Анютой; Андре Лео, чьей ближайшей сотрудницей она была, уже находилась за решеткой.
Прибыв в Париж 10 июня, Ковалевские немедленно выпроводили Анюту за границу, а сами остались «хлопотать о нем», то есть о Викторе, которого вместе с другими коммунарами содержали в тюрьме Шантье в Версале. В тот же день Владимир Онуфриевич пытался получить свидание с Виктором, но увидеть заключенного ему удалось лишь 11-го.
Жаклара обвиняли в том, что он, будучи командиром Национальной гвардии Монмартра, приказал расстрелять генералов Тома и Леконта, хотя на самом деле именно он пытался воспрепятствовать убийству. Обвинение было слишком тяжелым, а рассчитывать на объективное разбирательство не приходилось. В первые дни после падения Коммуны, когда вовсю бушевали распаленные страсти, нескольких человек, принятых за Жаклара, убили на месте. Сам Виктор уцелел только потому, что его взяли позднее, когда злоба и мстительность уже несколько ослабли. Однако в тюрьме его подвергали самым бесчеловечным издевательствам. Раздев донага, привязывали к столбу и методично избивали ружейными шомполами...
Конечно, Виктор рассказал Владимиру о своем положении, и отзывчивый, как всегда, на чужую беду, готовый немедленно броситься на помощь, Ковалевский тотчас перечеркнул свои планы, чтобы разделить участь несчастного узника.
«Положение теперь вот какое, — написал он брату, — Анюта, конечно, последует за ним, но так как его повезут вместе с другими ссыльными на транспортных судах вокруг мыса Доброй Надежды, то Анюте надо будет ехать одной, что, я думаю, невозможно. Софа рвется ехать с нею, что, я думаю, нелепо, потому что это помешает ей кончить свои математические занятия и выдержать экзамен, а это, вероятно, может случиться через шесть или восемь месяцев. Очевидно, Саша, сила обстоятельств говорит, что сопровождать Анюту через Суэц, Цейлон и Мельбурн приходится мне и приходится поселиться с ними в Новой Каледонии, а Софа, выдержавши экзамен в Берлине, приедет к нам туда».
И, как бы извиняясь за столь резкую перемену во всей своей жизни, с горечью заключал: «Видишь ли, дорогой друг мой, какой странный оборот приняли дела; но иначе, рассуди строго, поступить невозможно. Софа и Анюта стали совсем мне родными, так что разлучиться с ними мне будет невозможно. Что ты думаешь обо всем этом?»
С обычной для Владимира Онуфриевича стремительностью он все уже обмозговал до деталей. Сам он на далеком тихоокеанском острове будет изучать местную фауну. Для этого нужно взять с собой много научной литературы, которую можно закупить у книготорговца Фридляндера: дать ему вперед 100 талеров и взять в долг книг талеров на 200 — 250 («если ты поручишься, что все будет уплачено, так как он тебя почему-то уважает»). Владимир уже беспокоился о том, как Софа после сдачи экзамена доберется до Новой Каледонии, и спрашивал брата, не согласится ли он привезти ее, если ему «доставят деньги на проезд».
Но до суда над Жакларом оставалось еще месяца четыре, и пока что требовалось хоть чем-то помочь ему.
Вынужденный считать каждый франк, Владимир записывал на клочке бумаги мелкие расходы. Клочок этот сохранился: он дает некоторое представление о деятельном участии Ковалевского в судьбе Виктора. Вот этот любопытный документ:
«Издержки в Париже 10 июня 71. Платки — 6 франков, зонтик — 7, свечи и мелочи — 4, мантилья Софе — 30, прачка — 2, оршад — 1, письма и омнибус — 4, Софе зонтик — 10.50, хозяйке до 19 июня за квартиру и обеды — 72, обеды в Bouillon — 18,83 fr. + 72; поездка в Версаль, — 3 франка, 2-я поездка в Версаль и обратно — 9 франков; 3-я поездка — 10 франков; оставлено Jaclard'y — 5, еда ему же — 2, сигареты — 1,50; 4-я поездка — 2,50, книги Viktor'y — 30, еда Виктору и 5-я поездка — 4, поездка в Декаре — 5,72. Счет Анюты: взято 1000 франков, за билеты в Страсбург (2) 86 франков, мешки — 4, перчатки — 3, для Виктора до конца июня — 72 = 165».
Остается лишь удивляться, что, крутясь в этой суете, почти ежедневно ездя на свидания в Версаль, Ковалевский находил время еще и на то, чтобы возобновить занятия в Музее естественной истории.
Теперь он работал преимущественно в лаборатории профессора Жерве по сравнительной анатомии моллюсков. Именно эти знания он считал необходимыми, чтобы успешно трудиться в Новой Каледонии, справедливо полагая, что моллюски столь отдаленной части Тихого океана совершенно не изучены.
К 1 июля в Париж приехали родители Софы, и, конечно же, нерадостной была их встреча с дочерью и «зятем», которых они не видели больше двух лет. Но зато не установилось между ними и прежнего отчуждения. Общая тревога за судьбу Жаклара неожиданно сблизила «отцов» и «детей».
Вряд ли можно думать, что Василий Васильевич Корвин-Круковский сочувствовал делу Коммуны, хотя геройский патриотический дух, с каким Париж восстал против капитуляции перед врагами отечества, должен был тронуть какие-то струны в сердце старого воина. Однако убеленный сединами генерал, несмотря на тяжелый разлад в семье, любил свою непокорную старшую дочь — любил деспотично, но глубоко и искренне. И потому не мог остаться в стороне, когда роковая беда нависла над человеком, с которым она, хоть и против воли родителей, связала свою судьбу.
Василий Васильевич прихватил с собой кругленькую сумму денег, и не затем, чтобы потратить ее на «парижские удовольствия». Но больше, чем на деньги, он рассчитывал на знакомство с Тьером, которому был представлен еще в те времена, когда служил начальником Московского арсенала. По всей вероятности, он встречался с Тьером и минувшей зимой, когда тот от имени правительства национальной обороны приезжал в Петербург просить Александра II вступиться за поверженную Францию. Миссия его закончилась безрезультатно: Россия твердо придерживалась нейтралитета. Но Тьера сочувственно приняло высшее петербургское общество, и на каком-то рауте отставной генерал нашел, по-видимому, случай высказать коротконогому французику сочувствие в постигшем его страну несчастье. Теперь все это оказалось необычайно важным.