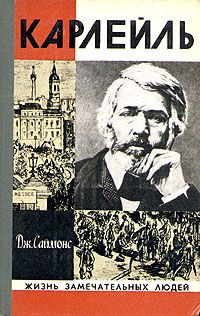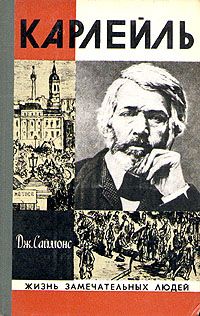Из Лондона Эмерсон направился в Эдинбург. Ему стоило большого труда узнать, где живет Карлейль, но в конце концов он нанял старый экипаж и отправился в путь «к дому средь пустынных холмов, покрытых вереском, где одинокий мыслитель питал свое могучее сердце». Его не ждали, но приняли радушно, коляску отослали обратно в Эдинбург до следующего дня. Эмерсон испытывал невольное восхищение перед Карлейлем, подобно Джеффри и Миллю: это восхищение боязливого перед бесстрашным, робкого и рассудительного – перед убежденным, верящим интуиции. К тому же Карлейль (Эмерсон заметил, что жена называла его по фамилии с ударением на первом слоге), не стеснявший себя условностями, умел быть – как и на этот раз – милым и занимательным хозяином. Эмерсону понравился и его северный акцент, и идиоматичная речь, и то, как он, когда его спросили о гении какого-то писателя, принялся хвалить необыкновенный ум и талант собственной свиньи.
Речь Карлейля, переходящая с пауперизма на бессмертие души и с книг на любимые лондонские булочки, была одним из трех самых сильных впечатлений, вынесенных Эмерсоном из поездки по Европе. Правда, похвала эта утратит силу, если назвать два других: бюст Клитии, поднимающейся из лотоса, в картинной галерее Таунли, и встреча в Эдинбурге с одним человеком, в котором, как показалось Эмерсону, было что-то от духа Данте. День или два спустя после визита в Крэгенпутток Эмерсон повидал Вордсворта и очень огорчился, узнав его мнение, что Карлейль пишет невразумительно и часто бывает не в своем уме.
Это приятное посещение убедило Карлейля в возможности создать в Лондоне школу мистиков. Джейн, хоть и ничего не говорила, но стремилась к обществу после нескольких лет одиночества. Она частенько с горечью цитировала чей-то комплимент, сказанный в ее адрес Карлейлю: «В миссис Карлейль видны еще следы былой красоты». «Подумай только! – писала она Бэсс Стодарт. – В тридцать лет – „следы“!» Зима 1833 года выдалась суровой: ветер вырывал деревья с корнем, сносил черепицы с крыш, для четы Карлейлей она вряд ли была счастливой. В одном грустном стихотворении, написанном скорее всего Джейн, озаглавленном «Ласточке, вьющей гнездо под нашей крышей» и датированном «Пустыня, 1834», ясно передано ощущение Карлейлей в последнюю пору их жизни в Крэгенпуттоке. Вот две первые и последняя строфы стихотворения: И ты скиталась, трепетный комочек, Ты облетела мир и, верно, хочешь Склонить усталое крыло. Все отдала бы я, когда спросить могла бы, Какую радость для себя нашла ты Здесь вить свое гнездо. В полете видела ты сказочные дали, Весь мир лежал перед тобой – едва ли Не странен выбор твой. Из тысяч стран, твоим глазам представших, Из тысяч мест ты предпочла остаться В пустыне чахлой и скупой. Поторопись, чтобы божественная сила Потомством в срок твой дом благословила. Ты сердцу моему мила. Распорядилась жизнью ты умело. А я? – не спрашивай! И я бы так хотела, Но – если б только я могла!
Однако и эти мрачные дни приносили с собой относительные радости: приезжал друг Карлейля Уильям Грэам и пробыл с ними два дня (правда, «при плохой погоде и довольно скучных разговорах»); его ученик Глен, тихо помешавшийся, жил на ферме неподалеку, и Карлейль ходил к нему читать Гомера; он имел свободный доступ в одну домашнюю библиотеку на расстояния верховой прогулки от Крэгенпуттока. И все же Карлейль рвался в большой город. В январе он сделал последнюю попытку найти через Джеффри какое-нибудь место. Попытка не удалась, и эта неудача расстроила их дружбу.
Когда Карлейль безуспешно пытался пристроить в какое-нибудь издательство «Сартора», он думал, что Джеффри в общем-то не очень стремится ему помочь. Поскольку и тема, и тон книги задевали самые глубокие струны в маленьком прокуроре, то у него, разумеется, не было иных причин помогать Карлейлю, кроме природной благожелательности. Теперь Джеффри стал важной политической персоной, и его терпению по отношению к Карлейлю приходил конец. Хотя он и продолжал писать письма Джейн, начинавшиеся словами «Мое милое дитя!», и при встрече неизменно испытывал восхищение перед Карлейлем, это именно он сделал все, чтобы устранить Карлейля из «Эдинбургского обозрения», написав Маквею Нэпьеру, что «Карлейль не пойдет» – точно теми же словами, какими он задолго до этого написал о Вордсворте. Карлейль, со своей стороны, употребил в адрес Джеффри роковое слово «гигманист». Именно под этими несчастливыми звездами случилось, что Карлейль увидел в газете объявление о том, что в Эдинбурге открылось новое место профессора по астрономии, и написал Джеффри. Разве не говорил ему генеральный прокурор, чтобы он обращался к нему в любое время, «когда бы Вы ни решили, что я могу сделать что-нибудь для Вас или Ваших близких?» Разве не ясно было, что, если дело это и не было непосредственно в его ведении, все же его слово очень много значило? Чем больше Карлейль думал об этом месте, тем больше оно ему нравилось: он вполне подходил для него, и, во всяком случае, это было синекурой. Он никак не мог ожидать отказа даже в рекомендации, но именно его он получил. С обратной почтой Джеффри прислал ответ, что у Карлейля нет ни малейших шансов получить кафедру астрономии и не стоит даже подавать бумаг. Оп продолжал, что тон писаний Карлейля был «дерзким, злобным, невразумительным, антинациональным и неубедительным», и добавлял в таких выражениях, которые в устах менее мягкого человека, чем Джеффри, означали бы угрозу: «Теперь, когда Вы начинаете ощущать последствия, Вы, возможно, даете больше веры моим предупреждениям, чем раньше». В этих словах – отчаяние извивающегося червя, слабого человека, выведенного из границ его терпения; мало кто сумел бы ответить на них так, как ответил Карлейль: беззлобно поблагодарить Джеффри за то, по крайней мере, что не заставил долго понапрасну надеяться, и заметить в письме брату Джону, что ему полезны время от времени такие удары по самолюбию. С тех пор, однако, дружеский тон их переписки был утрачен, а вскоре прекратилась и сама переписка, хотя Джеффри еще несколько лет продолжал обмениваться письмами с Джейн.
Лишившись этой последней надежды на место, они решились перебираться в Лондон, и в мае 1834 года Карлейль отправился на поиски дома внаем. По дороге он из дилижанса с серьезным видом приветствовал какую-то процессию тред-юнионов и получил такой же серьезный ответ. После некоторых поисков в Кензингтоне, Бейсуотере и Челси он остановился на доме No 5 по Чейн Роу, «старом, крепком, просторном кирпичном доме, построенном сто тридцать лет назад». Дом был трехэтажный, позади была узенькая полоска сада. Были у них, разумеется, некоторые сомнения: у Карлейля – подходящее ли это место для жизни – Челси, у Джейн – нет ли клопов за деревянными панелями стен. Но низкая рента – 35 фунтов в год – решила дело. 10 июня 1834 года, в сырой и пасмурный день, Карлейль, Джейн и их служанка Бэсси Барнет двинулись с Эмптон-стрит в Челси. Когда они пересекали Белгрейв сквер, маленькая канарейка, привезенная Джейн из Крэгенпуттока, громко запела.