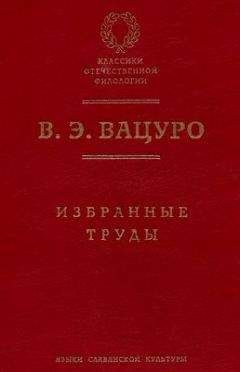Эту повесть — «Уединенный домик на Васильевском» Титов отдаст Дельвигу по его возвращении[242].
«Северные цветы на 1828 год» расходились тем временем за пределами столиц. В марте П. А. Катенин, высланный за пять лет до того из Петербурга за вольнодумство и фрондерство и с тех пор живший в своем сельце Шаево Костромской губернии, находит книжку альманаха у своего двоюродного брата и обнаруживает упоминание о себе. Отзыв был благожелателен, но содержал и упреки стихам в «Андромахе», и Катенин дал волю своему раздражению.
Он уже потерял почти все свои литературные связи, и один Н. И. Бахтин вел с его ведома нескончаемую полемику в его защиту с петербургскими и московскими журналистами. Сам он был в Петербурге в последний раз в 1827 году, виделся с Каратыгиными и с Пушкиным и тогда же начал писать большое стихотворение «Старая быль», о котором рассказал Бахтину и еще кое-кому из литературных знакомцев, — например, брату Языкова Александру Михайловичу[243]. Со второй половины года он снова засел у себя в деревне и демонстрировал презрение к современной словесности; за отзывами о себе следил, однако, внимательно и «Старую быль» продолжал писать. Стихи вырастали на автобиографической основе и в них была «ar— rière pensée», — аллюзия, задняя мысль: за двумя певцами, греком и русским, вступившими в состязание при дворе князя Владимира, угадывались современные литераторы. Грек, в сладостном песнопении восславивший царя и двор, был едва ли не Пушкин, с его «Стансами», русский певец-воин, отказавшийся от своей песни, чтобы не участвовать в позорном прении, был сам Катенин. Блестящие стихи «Старой были» играли красками почти памфлетными, и Катенин приложил к ним комплиментарное посвящение Пушкину, где впрочем, задел слегка «молодых романтиков» и «прославленного, пренагражденного» историографа Карамзина. Смысл «Старой были» тем самым как будто смягчался или даже изменялся, и Катенин, хотя не без колебаний, собирался послать ее самому Пушкину[244]. Он так и сделал; не зная адреса, он отправил письмо Погодину в Москву, с просьбой доставить по назначению, и Погодин тогда же переслал все в Петербург.
В мае в руках Пушкина находились уже и «Старая быль» и «Посвящение», и письмо Катенина, где он хвалил и «Онегина», и «Нулина», и портрет, приложенный к «Северным цветам», и предоставлял «множество» своих стихов в полное распоряжение Пушкина с правом печатать их где и когда угодно, так как он сам, Катенин, ни с какими «журналистами и аль-манахистами» знакомства не водит. Этим правом Пушкин воспользовался буквально и пока что держал стихи у себя и не отвечал ничего. Катенин рассчитывал на немедленный ответ и его невероятная мнительность еще увеличивала муки ожидания.
Пушкин, однако, удерживал у себя стихи с намерением отдать их Дельвигу, — во всяком случае, он не послал их в «Московский вестник», как мог бы сделать. Привлечь Катенина к сотрудничеству было, как мы помним, давним его желанием, — но здесь был случай особый: требовался ответ, столь же комплиментарный и дипломатичный, но с недвусмысленным возражением, понятным Катенину. Площадкой для этой скрытой полемики мог быть только «свой» орган. Поэтому он отвечал через А. М. Каратыгину, что очень виноват, что летом ничего писать не мог, «стихи не даются», а прозой отвечать на послание Катенина нельзя, «но завтра, завтра все будет». Катенин ждал, досадовал и раздражался и начинал подозревать «Сашиньку» «в некоторого рода плутне», о чем не замедлил сообщить Бахтину[245].
Тем временем к Пушкину продолжали стекаться чужие стихи. Вероятно, в июле или августе он получает письмо от Кюхельбекера.
Когда десять месяцев назад произошла их драматическая встреча на глухой станции, Кюхельбекера перевозили в арестантские роты Динабургской крепости. С тех пор он оставался в Динабурге. Ему было разрешено писать — только к родным; но он сумел нарушить запрет и писал к Бегичеву и Грибоедову. 10 июля он отправил письмо «любезным братьям поэтам Александрам» — Пушкину и Грибоедову, — не зная, что последнего уже месяц нет в Петербурге. Вместе с письмом он посылал несколько «безделок», сочиненных им в шлиссельбургском заточении[246].
Нет сомнения, что это были стихи «Ночь», «Луна» и «Смерть», связанные между собою единой темой тюремного одиночества и тюремных воспоминаний.
В этих стихах даже и «arri è re pens é e» нет: это лирический дневник узника. Если решаться их печатать — а это немалый риск для издателя — то это можно сделать только в «Северных цветах».
И еще одно стихотворение Пушкин получает в эти месяцы — от Вяземского; со времени своего отъезда князь успел побывать в пензенских имениях и даже слегка увлечься провинциальной красавицей, молоденькой Пелагеей Николаевной Всеволожской; в письме от 26 июля он сообщал Пушкину только что написанный ее стихотворный портрет: «Простоволосая головка»[247].
Пушкин собирает стихи для Дельвига — свои и не свои; он все более охладевает к «Московскому вестнику». 1 июля он пишет Погодину письмо, где ободряет издателя и оправдывается в «неизвинительной лени». Он обещает осенью выслать «оброк сполна», — пока же посылать нечего.
К 1 июля готов уже весь цикл «оленинских» стихов, «Не пой, красавица, при мне», главы исторического романа…
15 сентября приехавший в Петербург Шевырев получает у Пушкина «главу из романа для альманаха». Итак, снова «для альманаха»… «Здесь сотрудники „Московского вестника“ решительно не верные, — пишет Шевырев в Москву. — Это узнал я по опыту»[248].
За весь 1829 год в погодинском журнале появилось восемь пушкинских стихотворений, причем одно из них — «Утопленник» — предназначалось, кажется, тоже для «Северных цветов». Во всяком случае, так думал Вяземский. Перед отъездом Шевырева за границу Пушкин подарил ему «Утопленника», перевод из «Конрада Валленрода» и несколько других стихотворений и советовал издать в особом альманахе — но Шевырев передал их Погодину[249]. Если бы он поступил по пушкинскому совету, «Московский вестник» располагал бы только тремя или четырьмя стихотворениями Пушкина.
В «Северных цветах на 1829 год» появилось семнадцать пушкинских произведений и два — в «Подснежнике» того же 1829 года.
Дельвиг предполагал остаться в Харькове до 10 июля, но судьба судила иначе. 8 июля скончался его отец, и ему пришлось задержаться в тульском имении. Он писал к Пушкину, писал к Сомову, и Сомов от его имени обращался к Языкову с просьбой и на следующий год поддержать альманах и если будут стихи, то доставить их через Булгарина[250].