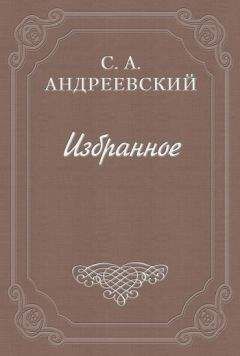На этом кончились прения. Суд удалился для совещания. Зная, что совещания военного суда всегда чрезвычайно продолжительны, мы принялись блуждать по клубу, присаживаясь то в столовой, то в бильярдной. Жандармский капитан, из оставшихся свидетелей, отозвался о моей речи: «Просто и ясно». Начальник охраны, видимо убежденный, вполне добродушно сказал мне: «Я готов с вами согласиться. Гурцман в убийствах ни при чем».
А мы, защитники, все-таки чувствовали угнетение. По нескольку раз я возвращался в залу, и как-то увидел Стааля, присевшего на одном из бальных диванчиков возле жены Каспржака. Когда он отошел от нее, я его спросил:
– Разве вы говорите по-польски?
– Плохо. Но она все понимает по-русски. Тяжело ей теперь. Поговорите с ней и вы.
Я осведомился о ее сыне и муже. Узнал, что сын здоров, что муж за это время, в течение более года, при ее посещениях не сказал ей ни слова. На свиданиях неизменно присутствовали посторонние. Муж, сколько она помнит, постоянно был в разъездах и заботах. Семью любил, но своих чувств не показывал. Мальчик обожает отца.
– Похож ли он лицом на мужа?
– Бардзо мало.
– А умом, характером?
– Трохе так…
И она улыбнулась.
Бледное лицо госпожи Каспржак, ее простые слова, ее мягкий голос – все это было воплощением глубокого горя, сдерживаемого сильной душой.
В это время в зале суда уже сделалось темно. Сторожа начали протискивать в двери высокую лестницу, чтобы снять с люстры белый чехол, окутывавший электрические лампочки. И когда лестница возвысилась до белого чехла люстры, мне померещились виселица и саван… Холод пробежал у меня по спине. Тяжко мне было смотреть на этот зал и на закрытую дверь совещательной комнаты… По счастью, г-жа Каспржак, ушедшая куда-то далеко в свою печаль, опустила голову и ничего окружающего не замечала.
Сняли чехлы с люстры. Зал осветился электричеством. Совещательная комната по-прежнему не подавала признаков жизни.
Но вот засуетились сторожа. Откуда-то прошел слух, что приговор подписан. Послали за подсудимыми. Я попросил Киеньского выслушать приговор за нас обоих, а сам удалился через коридор в столовую. Я шагал по ней в одиночестве довольно долго. Очевидно, в приговоре что-то неладное. Если бы Гурцман был оправдан, ко мне бы тотчас же кто-нибудь прибежал. Наконец, и самый шум вдалеке как-то сразу затих. Я поторопился узнать, что произошло. У порога зала мне сообщили, что Каспржак присужден к повешению и уже уведен, а Гурцман (еще находившийся в комнате перед залом), – к пятнадцатилетней каторге. Я застал его в обществе брата и Киеньского. Часовые не препятствовали нашим разговорам. Бодрее всех нас был Гурцман. Лицо у него было довольное, глаза – веселые, разговор – искренно-спокойный. Он поцеловал меня и, как бы утешая, твердым голосом сказал: «Очень важно, что они все-таки поняли, что я не убивал» (его признали виновным только в «попустительстве»).
Гурцмана удалили, и мы разъехались.
На следующий день ко мне приехал брат Гурцмана, после нового свидания с ним. Он рассказал, что осужденный Бенедикт предвидел каторгу как лучший исход, и уже имеет все сведения о маршруте. Он даже интересуется каторгой, желает испытать ее, как Достоевский. Да, пока силы молоды. Но ведь срок ужасен! Для изучения каторги из любознательности довольно и месяца. Лучшая пора жизни пропадает. А главное – за что же?!
Я отправился в суд. Председатель военно-окружного суда (не тот «военный судья», который подписал приговор, а тот, который вел два предыдущие заседания) сладостно-мягким голосом утешал меня: «Для Гурцмана сделали все, что было возможно».
Ну что на это сказать?! Думаю, что если бы дело разбиралось публично, то и суд не припутал бы Гурцмана к убийству. Но процесс велся не публично. Всей Варшаве было известно, что на месте преступления пойманы двое, а убитых – четверо. Кто не знал подробностей, тому должно было казаться, что эти двое одинаково виновны, тем более, что Гурцман – молодой еврей (значит, террорист), да и недаром же оба, Каспржак и Гурцман, целых полтора года просидели за эти убийства в тюрьме. Как же было после этого объявить публике, что Гурцман совсем невиновен в кровопролитии? Скажут: пристрастие, вольнодумство, слабость. А генерал-губернатор? Ведь тот не читает свидетельских показаний. А между тем надо, чтобы в крае все знали о его строгости, чтобы ему никто не приписывал непонятных нежностей к преступникам. Накануне произнесения приговора был смещен Максимович, и власть перешла к Скалону. Военный суд, очевидно, не пожелал дебютировать перед Скалоном оправданием Гурцмана. Новый генерал-губернатор не дозволил осужденным подавать кассационные жалобы. Много интересных юридических вопросов погибло под этой резолюцией.
Каспржак был повешен.
Гурцман, по манифесту 23 октября 1905 года, получил сокращение каторги до пяти лет. Дело о принадлежности его к социал-демократической партии, в силу того же манифеста, прекращено.
Отец осужденного подал прошение государю. Прошение пошло к военному министру, а тот передал его генералу Павлову. Генерал Павлов нашел, что приговор достаточно смягчен по манифесту и отклонил доклад.
Гурцман отбывает каторгу. Жизнь юноши, конечно, загублена…
Рассказываю же я это для того, чтобы напомнить о судьбе невинно осужденного. Не ясно ли, что здесь возможна полная амнистия?
Предварительное следствие было просто нелепо. В нем проводилось положение, будто убитый не мог вынуть своей шашки из ножен. В подтверждение этого упрямого непонимания вещей были собраны разные поверхностные доказательства. Я разгадал ошибку и выставил все доводы к ее разоблачению. Но только после отмены Сенатом первого решения Тифлисской палаты, второе решение этой палаты согласилось с моей аргументацией. В конце концов каторга была заменена арестантскими отделениями.
Дорогие друзья! Когда я умирал… (фр.).
«Как жаль! Такой трудолюбивый!» (нем.).
предстать во всеоружии… (фр.).
«Больше света!» (нем.).
В сущности, это письмо Л. Толстого – пересказ буддийской кармы. Позже, в 1904 г., Толстой высказался проще и лучше. «Я ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот в руки Твои предаю дух мой. И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять – это Он знает, а не я» (З. Гиппиус, «Suor Maria»).
«Это рак мозга» (фр.).