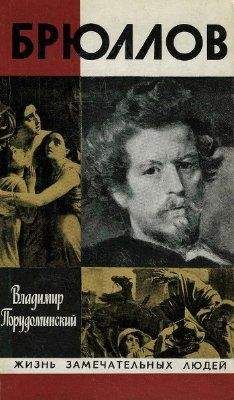Итальянец Висконти, кажется, первый составивший подробное описание «Последнего дня Помпеи», закончил свой рассказ словами: «На картину эту должно смотреть глазами души».
Огонь, дым, пыль, пепел, черный дождь полосует воздух — и мраморная чистота фигур. Ужас, боль, разрушение, смерть — и красота лиц, тел, движений. Прекрасное в людях Брюллов пишет прекрасным. Когда-то, постигая красоту античных статуй, он говорил, что Аполлон для него еще и лучший человек. Выявляя и утверждая лучшее, что есть в людях, Брюллов сообщает им красоту античных статуй. «Прекрасное должно быть величаво…» — эти слова Пушкиным уже произнесены. Подлинно величественное прекрасно.
Брюллов говорил, что все вещи, им изображенные, взяты из музея, что он следует археологам — «нынешним антиквариям», что до последнего мазка он заботился о том, чтобы быть «ближе к подлинности происшествия». Он и место действия показал на холсте достаточно точно: «Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя»; на том месте, которое попало в картину, при раскопках найдены были браслеты, кольца, серьги, ожерелья и обугленные остатки колесницы. Но мысль картины много выше и много глубже, чем желание реконструировать событие, случившееся семнадцать с половиной столетий назад. Ступени гробницы Скавра, скелет матери и дочерей, перед смертью обнявших друг друга, обгоревшее колесо повозки, табуретка, ваза, светильник, браслет — все это было пределом достоверности, который невозможно переступить, и вместе искрой, воспламенявшей вдохновение, будившей воображение и мысль. Не за точной реконструкцией он гнался, а создавал новый мир, который силою замысла, чувства и веры поднимается от правдоподобия до правды.
«Ты учился рисовать антики? Должен знать красоту и облагородить слепок», — говаривал академический профессор, добрейший Алексей Егорович Егоров. Но в том-то и искусство, в том высокое чувство соразмерности и сообразности, чтобы, облагораживая мозолистую ногу натурщика, не превратить ее в гипсовый слепок с древнего образца, который, кстати, оттого и стал образцом, что был материальной частицей живой жизни, а не отвлеченностью и расчетом. Брюллов знал антики и облагородил своих помпеянцев, но не холодные прекрасные статуи разбросаны на холсте — живые люди: в их прекрасных лицах, телах, движениях Брюллов воспевал лучшее в людях, а не расчетливое совершенство формы.
Живая жизнь, прожитая и пережитая Брюлловым, вторгалась на его холст, подсказывала сюжеты групп, лица людей, их позы и поступки. Говорили, что в образах мудрецов «Афинской школы» Рафаэль запечатлел своих современников: сделал Платона похожим на Леонардо да Винчи, Эвклида — на архитектора Браманте, в сумрачном и нелюдимом Гераклите узнавали Микеланджело; у края картины поместил он себя и своего приятеля, живописца Содому. Кто сумеет три столетия спустя угадать остальных? Да и надо ли? Для зрителей — и не только позднейших, но и для современников Рафаэля, — Платон и Гераклит «Афинской школы» — это Платон и Гераклит, а не Леонардо и Микеланджело, как Афродита Праксителя для всех была богиней Афродитой, а не возлюбленной скульптора, собравшейся купаться. «Афинская школа», Праксителева Афродита — искусство, а не маскарад. В «Последнем дне Помпеи» часто искали Самойлову и находили ее портрет то в матери, обнимающей дочерей (Джованина и Амацилия?), то в женщине с вазой, то в жене помпеянца с поднятой рукой. Черты ее можно угадать и в облике упавшей с колесницы, и в облике девушки со светильником: Юлия Павловна — женщина Брюлловым любимая, более того — это тип женщины Брюлловым любимый (недаром в женщинах «Последнего дня Помпеи» можно обнаружить и сходство с римскими натурщицами, которых любил писать Брюллов). С таким же успехом, глядя на помпеянца, укрывающего плащом семью, нетрудно вспомнить метателя Доменико Марини. Наверно, каждое лицо на картине могло бы принести немало находок такого рода, но эти поиски — бесплодное занятие. Герои картины Брюллова так же не знакомые живописца, как не античные статуи: это последние жители Помпеи, вместе со своим городом принявшие смерть. И даже автопортрет на ступенях гробницы Скавра не своевольное изображение Карла Павловича Брюллова, а мечущийся с толпой помпеянский художник — создатель замечательных фресок, которыми наслаждался Карл Павлович, — необходимейшая и в замысле, и в композиции часть картины.
Как он замечательно нашел, высмотрел в веках, в многолюдье толпы, в разрываемой молниями тьме гибели и разрушения этого художника с кистями и горшочками красок в ящике, который он поднял над головой, одновременно предохраняя себя от ударов камней и спасая самое дорогое! Какой образ искусства — вечного, гибнущего и птицей Фениксом возрождающегося из пламени и пепла! И сколько в этом образе действительно своего — не только схожесть внешняя, но выстраданное, сладкое и мучительное, душа брюлловская, сердце, раздумья, провидение.
В пору напряженнейшего труда над «Последним днем Помпеи» Карл Брюллов приписал на чужом послании к брату Александру три строки поздравления с женитьбой: «Здравствуй и прощай, брат. Кланяйся жене твоей. Поцелуй ее за меня. Я никогда не женюсь. Жена моя — художество».
(Альбом с рисунками помпейских бань издан. Александр уже в Петербурге. Уже профессор. Женат на дочери банкира Ралля. Человек из него вышел.)
Брюллов работал вдохновенно. К вечеру его выносили из мастерской на руках не оттого, что уставал от работы, а оттого, что отдавал себя ей без остатка, сжигал себя в каждой линии, в каждом мазке краски. Каждая подробность картины отзывалась в нем мелодией, которую нужно было, не утеряв, вплести в сложное и могучее многоголосье симфонии. «Смотрите, — говорил он, запечатлевая какой-нибудь слепок, — смотрите, целый оркестр в ноге!» Он писал мускулистые, выточенные походами ноги воина, и не утратившие детской нежности ноги отрока, его брата, и тронутые беспощадными следами старости, обессиленные болезнью и бездействием ноги отца, которого они несут на плечах, — если бы картина Брюллова погибла в какой-нибудь новой Помпее, то и эти три пары ног — уцелей они — помогли бы воображению воссоздать группу и подсказали бы мысль целого.
Однажды он почувствовал, что теряет нить, жаловался, что захлебывается в подробностях. Он бросил кисти, запер мастерскую, отправился в Венецию, в Болонью, набирался ума возле старинных полотен и росписей — после привычных римских они будоражили его пряностью новизны; в Болонье он подружился с астрономами, ночью смотрел часами на мириады звезд, рассыпанных по небу, постигал в бесконечности стройное устройство вселенной — и снова обретал целое.