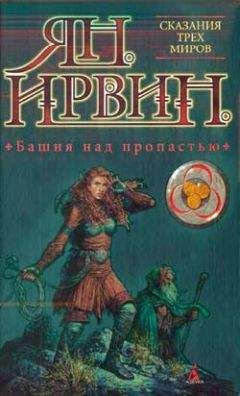я зовы новых губ.
Он привел в «Собаку» своего поклонника, противного типа Велимира Хлебникова, автора первых стихов с беспорядочным синтаксисом, лишенных не только знаков препинания, но и смысла, «зауми». Алексей Крученых, который был еще противнее Хлебникова, вызывал у публики зубовный скрежет неукротимым словесным поносом, полным неприличных выражений. Лифшиц, Анненков, Сологуб, Мейерхольд, Мандельштам, композитор Артур Лурье, братья Бурлюки – все они частенько наведывались в «Бродячую собаку». Кстати, оба эти брата, шуты-художники, изобрели словцо «авениристы», чтобы придать слову «футуристы» хоть какой-нибудь русский оттенок. В «Собаке» были замечены Луначарский, будущий министр просвещения в правительстве большевиков, Дягилев, Бакст, Шагал, Ларионов и множество других. Там со скандалом выставились живописцы из группы «Ослиный хвост». Малевич впервые показал в «Собаке» свой революционный «Черный квадрат на белом фоне», в изобразительном искусстве абсолютно ничего собою не представлявший.
Пронин гордился тем, что к нему заходят и видные иностранцы. С большой помпой там принимали француза Поля Фора, «принца поэтов», а еще и бельгийцев Эмиля Верхарна и Мориса Метерлинка, и британского писателя Герберта Дж. Уэллса – автора «Человека-невидимки». Видели там и французского комика Макса Линдера, и композитора Рихарда Штрауса.
Я частенько задаю себе вопрос – что сталось с той книжкой формата in-folio в переплете из свиной кожи, что лежала при входе: каждый, кто переступал порог заведения, обязан был вписать туда свое имя. Она, будучи одновременно коллекцией автографов и свидетельством литературной и художественной предвоенной жизни, несомненно оказалась бы драгоценным документом.
В прокуренном воздухе «Бродячей собаки» отчаянно спорили, оглушительно хохотали, ревели, декламировали стихи с конца на начало, импровизировали теории (как правило, самые бредовые), обожали парадоксы, насмехались над всем и особенно над собою, разрисовывали стены, с выхлопами вылетали пробки от шампанского – мир там создавали заново. Женщины провоцировали мужчин, было много случаев «любви втроем». Все возможно, все позволено. Кто-то разрисовывал собственное тело, другие гордо расхаживали с поварешкой в бутоньерке. На эстраде имел право самовыражаться любой – и вот на нее взбегали взъерошенные кудрявые философы, ораторы-краснобаи, трагикомики, любители поскандалить, праздные гуляки, перкуссионисты-математики, кухонные эрудиты и эрудиты настоящие, выходившие на ходулях, шарлатаны, женщины-клоуны. На одном из таких банкетов, организованных в «Собаке» в честь визита Маринетти, изобретатель футуризма, как я уже рассказывала, и подарил мне своего подписанного для меня «Мафарку».
«Собака» плевалась будущим, как выплевывают косточку – из нее вырастет целый лес, которому суждено будет сгореть.
Мой друг, художник Сорин (написавший меня в роли Сильфиды и на фоне мамелюкского ковра), усердно хаживал в «Собаку» и привел туда и нас с Василием. «Собачья» атмосфера нас позабавила, мы насмотрелись на новые веяния. И очень быстро стали если не завсегдатаями, то по крайней мере постоянными клиентами.
Так продолжалось до января 1914-го. А уже в марте того же года я оказалась в совершенно другом положении: не зрительницы, а приглашенной артистки (о том вечере я еще расскажу!) И со мной придет туда уже не Василий Мухин, а другой мужчина – Генри Брюс, британский дипломат, ставший моим вторым мужем.
От одного дня до другого, от одного мужчины к другому – какой же крутой вираж совершила тогда судьба моя. Или меня заразило безумие «Бродячей собаки»?
Но при этом он так плохо танцевал…
Можно сказать, что 1913–1917 годы оказались переломными в моей жизни. Нечто вроде моей личной маленькой войны, внутренней революции. Моя судьба вплелась в излучины Истории, со всеми ее взрывами восторга, переоценками ценностей и сопутствующими страданиями. Вот так текут и текут себе годы, один похож на другой, – а потом вдруг ваша судьба переворачивается за считаные минуты.
Мемуары Генри – «Тридцать дюжин лун» – начинаются с рассказа о нашем знакомстве. Пришло время и мне рассказать, как об этом вспоминаю я, – чего я не посмела сделать в «Моей жизни», рассудив, что со стороны женщины бестактно и неприлично выставлять напоказ свои любовные переживания.
Итак, я уже шесть лет была замужем, когда в один осенний вечер 1913 года получила приглашение на торжественный ужин в резиденции посла Великобритании в Санкт-Петербурге. Я пришла туда одна. Может быть, Василий от этого страдал? Не думаю. Меня пригласили без него. Могу предположить, что меня позвали как звезду Мариинского театра – его превосходительство посол Джордж Бьюкенен несколько раз видел меня на сцене и рассудил, что местный «аттракцион» вполне достоин такого вечера в качестве почетного гостя. В тот день он и его супруга, леди Джорджина, в небольшой компании праздновали юбилей совместной жизни. Я приехала туда с небольшим опозданием, прямо из театра, в вечернем платье, но с непокрытой головой. Стоило мне войти, как на меня устремились взгляды всех присутствовавших, и мне показалось, что на лице у сэра Бьюкенена отразилось легкое разочарование. Позднее я поняла: он-то ждал, что я явлюсь в «псевдо-тюрбане» – это такой головной убор, в котором я частенько щеголяла в театре в те дни, когда не была занята в спектаклях, – и когда нас представили друг другу, он от души им восхитился.
За столом я оказалась напротив господина Брюса, второго секретаря посольства, – он-то и был главным виновником разочарования посла. Да, виновником – ибо, выполняя поручение оповестить меня о приглашении по телефону (телефонные линии в тогдашнем Петербурге работали превосходно), он совершенно забыл упомянуть о такой важной детали, как мой тюрбан. Или же он поступил так намеренно, дабы я и не подумала об этом, а просто оделась, как мне захочется, – разумеется, при условии, что моя форма одежды будет сообразна обстоятельствам, в которых я оказывалась.
Генри Джеймс Брюс уделял немного внимания гостям, сидевшим справа и слева, – зато то и дело бросал беглые взгляды в мою сторону, на лету хватаясь за малейшую возможность ко мне обратиться. Каждая попытка заключалась в том, что он бормотал несколько слов, багровел, прочищал горло кашлем, внятно произносил несколько слогов, прерывался, начинал заново… Не осмеливаясь просить его повторить, я только поддакивала. Я никогда не могла понять, отчего выпускники Оксфорда и Кембриджа (а он, успев сказать это мне скороговоркой, до Оксфорда окончил еще и Итон) имели обыкновение выражаться, не иначе как то и дело запинаясь. Ложная скромность – оборотная сторона комплекса превосходства? А поскольку, кроме всего прочего, этот джентльмен явно отличался болезненной робостью, беседа очень скоро обернулась полным провалом. Внешне я находила его скорее обольстительным – волнистые светло-рыжие волосы и полупрозрачный светлый взгляд, – но это был стиль «бритиш» на грани карикатурности.
Заговорили о балете. Сэр Бьюкенен, который был без ума от «Пахиты», воздал должное моему исполнению