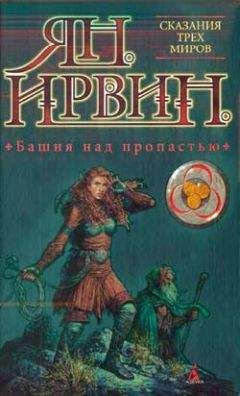пиджака выглядывала трубка, которую он не посмел закурить в моем присутствии. А уходя, мой гость забыл зонтик, что дало ему повод через несколько дней снова зайти. Из новой встречи и вовсе получился почти что полный пшик, и я начала подумывать, что бы такое предпринять, дабы отделаться от столь назойливого недотепы! [68]
В третий раз он явился вместе с послом, сэром Бьюкененом, как о том и предупредил. Нечего и говорить, что Дуняша надраила до блеска то немногое из серебряной посуды, что было у нас, вытерла всю мебель и положила поверх больших блюдечек еще и маленькие – ради чаепития в русском стиле: чай с брусничным вареньем, пирожки с творогом и блины.
В то время британский посол никуда не выезжал без личного шофера – тот был своего рода телохранителем: богатырского сложения, в двурогой шапке с плюмажем. Дул свирепый и ледяной северный ветер. Сэр Бьюкенен поинтересовался, можно ли его шоферу подняться в дом, чтобы обогреться, и разрешение немедленно было дано. Моя наивная Дуняша, потрясенная геркулесовой наружностью шофера, приняла его за посла, что вызвало забавное недоразумение, сразу разрядившее атмосферу, а меня оно погрузило в задумчивость, так как подчеркнуло глубокий социальный разрыв между пришедшими в гости джентльменами и такой скромной парой, как мы с Василием.
Солнечные лучи, отражаясь от ледяной ряби канала, затеяли на потолке узорчатую игру света и тени, вызвавшую у моих гостей восхищенные восклицания. Ветер доносил до нас далекий ритмичный звук солдатских шагов – там с громкой, летевшей к небесам маршевой песней проходил полк. Ритмичным казался и оглушительный стук барж о камни набережной.
Оба дипломата похвалили мебель из карельской березы медового цвета… и безмолвно застыли, увидев деревянное блюдо с фольклорными росписями; я любила его за простодушную пестроту, но сейчас оно вдруг показалось мне слишком уж деревенским.
За разговором сэр Бьюкенен превозносил достоинства своего второго секретаря, который, по его утверждению, вот-вот продвинется по службе и не ровен час сам станет послом.
Оба они поинтересовались, чьи это портреты украшают стены комнаты. Я объяснила, что это Мария Тальони и Карлотта Гризи, две знаменитые романтические балерины родом из Италии, – а Италия, как и Франция, вполне может считаться родиной балета. С этими балеринами связаны интересные истории. Мария, для которой ее отец создал «Сильфиду» (не путать с «Сильфидами»!), первой придумала подкладывать ткань в носочки балетных туфель, чтобы, приподнимаясь на кончиках пальцев, создавать иллюзию парения в воздухе. А прекрасная Карлотта с волшебными лиловыми глазами внушила безумную любовь поэту Теофилю Готье, когда тот увидел ее танцующей в «Жизели», причем либретто к этому спектаклю он сам же и сочинил – став первым французским автором, поучаствовавшим в создании балета.
Меня осыпали благодарностями за такие объяснения. Генри Брюс, впервые увидевший меня на сцене в 1910 году в Берлине, уже не запинаясь, заявил, что во мне соединяются достоинства Марии и Карлотты. Я не случайно пишу «не запинаясь». Бывают же такие превращения – словно змея сбрасывает старую кожу! Нервные подергивания лица вдруг куда-то почти совершенно исчезли. В беседе он был просто блистателен, сыпал шутками. Эта встреча втроем раскрыла мне глаза: если Генри сперва показался мне неуклюжим, почти что посмешищем – то лишь потому, что в моем присутствии он до смерти робел. Так я его впечатляла! Посол влиял на него умиротворяюще – и вот он расслабился и явил свое «глубинное я».
Пришла зима. Снежной дымкой заволокло очертания города, окутало его ореолом тайны. На нашей улице, и без того немноголюдной, воцарилась тишина. Канал, покрывшийся ледяной коркой, посверкивал под солнечными лучами и придавал моей гостиной пышный оттенок увядшей розы, а молниеносные и ослепительные лучи, случись им пробиться сквозь двойное окошко под кружевной занавеской, придавали ей сходство с театральной сценой. Я больше не говорила Василию о визитах Генри. Сказать по правде, я к ним привыкла. Генри приезжал в санях, одетый в элегантное пальто, подбитое мехом выдры. Из кокетства, или, быть может, чтобы испытать его, я взяла за привычку заставлять моего гостя немного подождать, прежде чем выйти к нему. Куда девалась его болезненная скромность – он проявлял глубочайшее понимание международных отношений, рассказывал о своих путешествиях, описывал Вену и Берлин, где начинал карьеру и оттачивал умения тонкого дипломата.
Как и я, Генри любил собак и никогда не упускал возможности погладить по шелковистым и вертлявым спинкам Лулу и Графиню Винни – двух моих спаниелей. А с собой всегда носил фотографию своего бульдога по имени Джонс – и этот пес вызвал у меня настоящее восхищение.
В тот день, когда он заметил мое страстное увлечение литературой, что показалось ему удивительным для балерины, он встал на цыпочки, с выражением почтительности подскочил ко мне и покрыл мою руку поцелуями. Застигнутая такой непосредственностью врасплох, я даже не успела среагировать. С тех пор мы горячо обсуждали Шекспира, и особенно Диккенса, служившего утешением моих детских лет. Сама я открыла в Генри человека куда тоньше и культурнее, чем ожидала. Положительной стороной его скромности была еще и крайне обостренная чувствительность, удвоенная деликатностью, которой я не находила ни в ком другом. Случалось, он хотел меня рассмешить. Тогда я, искренне и всегда предпочитавшая комизм в духе Мольера эвфемизмам английского юмора, делала вид, что поняла его шутку, и от души хохотала, вызывая у Генри такую радость.
Однако в этом не было ничего похожего на «роман», как говорят в России. Я вспоминала о визите Дягилева, о том, как этот человек, не любивший женщин, сперва очень меня смутил, потом увлек и наконец завоевал. Я поняла, что готова следовать за ним повсюду, и я следовала за ним повсюду. Сравнить все это с Генри я совершенно не могла и ни на миг не допускала мысли, что однажды он разделит со мной жизнь. Не было во мне и того чувственного трепета, какой пробуждал Больм, ни интеллектуального сообщничества, сразу же, с самой первой встречи установившегося между мной и Василием. С Генри все напоминало скорее медленную подгонку, поэтапное сближение, в которое один из партнеров (он) был вовлечен больше другого.
Мало-помалу мы стали обмениваться более интимными рассказами друг о друге. Генри принялся говорить о своей семье, предках, детстве в Лондоне и в родовом поместье Клифтон в Ноттингемпшире. Если Василий был незаконным сыном знатной особы, бастардом, как говаривали в то время, то Генри – истинным аристократом, выходцем из той небольшой высшей касты наследственной родовой землевладельческой знати, какую зовут баронетами. Он по прямой линии был потомком герцога Бристольского. Признаюсь, что сама удивилась, поймав себя на мыслях мидинетки: а что, его