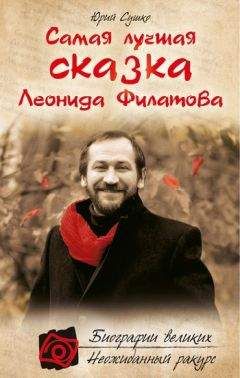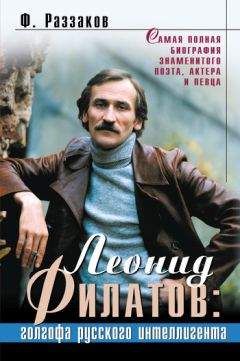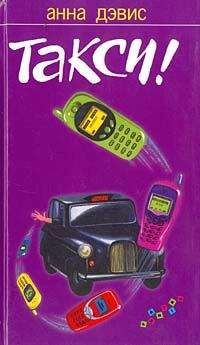Что же все-таки стало причиной? «Никто не знает, – за всех отвечал на эти вопросы Филатов. – Может, простуда. Может, инфекция. И алкоголь повлиял наверняка. Началось с обычного пиелонефрита – и понеслось. Мое несчастье, что меня запустили, несколько лет боролись с последствиями, а не с самой болезнью». Он никого не упрекал и никогда не задавал себе вопроса «почему»? Говорил, это только «поросята» визжат: «Почему? За что?» А ты подумай. И тогда поймешь, за что. И нечего верещать: «Ну какие у меня грехи?! Ну, врал, ну, людей обижал. Но не убивал же, не воровал!» – не твое собачье дело, это оценивается не здесь. Есть инстанции, где лучше знают: обмануть – это больше, чем убить, или меньше…»
Да и к себе он относился не лучшим образом, не слишком ласково. Хотел бы себя полюбить, да все как-то не получается. «Гораздо больше люблю других, близких, – признавался Филатов. – А себя – нет. А оттого, что во многих вижу отражение себя, самого мерзкого, что во мне есть, – бываю нетерпим. Но кто мне дал право судить других людей?»
* * *
«Если б мне кто-нибудь сказал: проверь почки… – горевала Нина. – Когда ему стали делать искусственную почку, состояние чуть-чуть улучшилось, а потом стало резко ухудшаться. Тут они испугались: ну как делать операцию? Я говорю: я возьму ответственность на себя, ни вы, ни мама – я буду отвечать. Хотя маме Клавдии Николаевне я так за помощь благодарна. Я говорю: он сильный, чувствую, он справится… Мы утром встали, позавтракали – вдруг звонок! Быстрее, чтоб через 20 минут были здесь, через 40 минут операция. Я его собираю, мою, кладу на каталку, его везут – я быстро в часовню при больнице, а она закрыта. Мама родная! Я сажусь в машину, семь церквей объехала, везде поставила свечи и бумажки отдала, чтобы молились за Леню. Мне сказали: категорически не приезжать в первый день. Позвонила моя подружка, замечательная Танечка Горбунова, я говорю: Таня, приезжай, я с ума сойду. Приезжает. Вдруг звонок от нашего лечащего врача Галины Николаевны: Ниночка, все нормально, писать начал чуть не сразу, как почку поставили. Следом Ярмольник: а я был у него… Выпили с Таней. Да еще как выпили!..»
Она говорила: «Я – Рыба по гороскопу. Не ясновидящая, но что-то вроде. И очень хорошо чувствую Леню. Хотя он был в плохом состоянии, я знала, что все будет нормально».
В своем стихотворении Филатов, обращаясь к «анонимщикам» (понимайте – к тайным и явным своим врагам), писал: «А я живу. Хвораю, но не умер. Чуть реже улыбаюсь, но живу… Не то чтоб вы вложили мало сил, не то чтоб в ваших пулях мало яда, – Но есть помеха – мать, жена и сын. Разбуженные вашею пальбой, Они стоят бессонно за плечами – Три ангела, три страха, три печали, Готовые прикрыть меня собой…»
Когда хвори особенно сильно прихватили, «наверху» кто-то словно спохватился, и на распластанного, неподвижного, прикованного к постели Филатова вдруг посыпались звания, всевозможные премии и все прочие награды: народный артист России, Государственная премия, премии «Триумф». «ТЭФИ», Международная премия «Поэзия» в номинации «Русь поющая»… «В качестве подарка меня приняли в Союз литераторов, – с тусклой радостью сообщал Филатов. – Ну, спасибо. Только зачем мне это сегодня?..»
Создавалось впечатление, что все вдруг спохватились, стали торопиться, поспешая отдать долги. Или прежние грехи перед ним замаливали? Может быть. «Это все от нищеты, – зло усмехался Леонид Алексеевич. – Вместо того, чтобы платить художникам, им дают «заслуженный», «народный» – этакие «феньки» правительственные. Обласкать немножко – и опять вышвырнуть туда же, в твою нору!.. Звание – как бы ничего не значит, – это симпатия или антипатия начальства.
Мне выдали всю порцию даже не за один год, а за несколько месяцев, рассказывал самый что ни на есть народный и много-многажды лауреат. Тогда ходили слухи, что Филатов не жилец, вот и спешили. Но слухи, кстати, не были лишены оснований. Через день меня возили через всю Москву на Волоколамку в шумаковский Институт трансплантологии. Туда трясешься на машине, оттуда трясешься, там полдня лежишь. В итоге ты уже ничего не хочешь – лишь бы в покое оставили. Так долго продолжаться не могло, окончательно в растение я превращаться не собирался. Очевидно, меня и пытались подбодрить, поддержать всеми этими наградами, но в том состоянии мне было совершенно безразлично, умру я заслуженным артистом или народным и похоронят меня на Ваганьковском или Новодевичьем.
Когда человек уходит, его беспокоит совсем иное… Я думал о другом: как бы не заорать от боли, не зареветь при маме, вести себя пристойно. Если говорить еще конкретнее, то больше всего я печалился, как бы покрасивше уйти. Понимал, что на героическую смерть не тяну, но хотелось не опозориться… Хотя бы перед теми же молоденькими медсестрами. Какая-то часть моего организма продолжала отмечать их свежесть и красоту. Может, ради них я старался выглядеть поопрятнее…
Конечно, он понимал: смерть – это физиология, боль, стоны. Но нельзя визжать, когда помираешь. Терпеть надо хотя бы ради окружающих, отплатить им своими последними минутами. Маленько кулаки сжать и понимать, что рано или поздно это пройдет: либо здесь, либо там… Точить слезу и отравлять всем жизнь – неприлично! Болеть – вообще дурной вкус! А умирать и вовсе преступно! Надо бултыхаться до последнего.
«Я старался держать себя именно так, – говорил Филатов, – и оградить от лишних забот и страданий своих близких, которым и без того страшно тяжело. Каково матери возить на коляске умирающего сына? Веры в то, что выживу, практически не было…»
Соблазн пожалеть себя в тяжкие минуты весьма велик. Лелеешь жалость к самому себе. Становишься противным. В том институте академика Валерия Ивановича Шумакова ему пришлось увидеть такое!.. «Даже жаловаться неудобно, – говорил Леонид Алексеевич, – когда рядом везут человека, которому хуже, чем тебе, в сто раз. Потом, когда приходишь утром на диализ, видишь пустую койку и все понимаешь, начинаешь вести себя скромнее. Так получается независимо от твоей воли».
В палате напротив лежал знаменитый актер Николай Афанасьевич Крючков. «Однажды вечером мы с ним пообщались, – горевал Филатов, – а наутро медсестра вошла ко мне и говорит: «Нет больше вашего соседа». Хоть криком кричи, ничего не изменишь».
Не менее печальной была и их последняя встреча с Роланом Быковым. Встретились в «Барвихе». Филатов уезжал из санатория, а Быков только-только приехал. Долго сидели, говорили по душам. «У Ролана был рак, – вспоминал Леонид Алексеевич, – он знал об этом и мне признался, но попросил никому не рассказывать. Может, примета есть такая или он просто стеснялся болезни, не знаю… О болячках мы не говорили, но Ролан постоянно повторял: «Мои десять лет отдай и не греши… Десять лет, как с куста… Червонец – на меньшее я не согласен»… Он был человек, способный поверить в свои заклинания. Не помогло. Через месяц его не стало…»