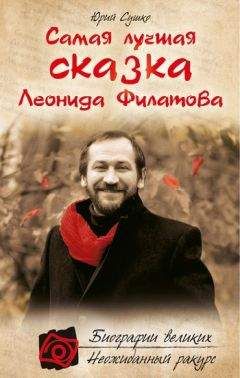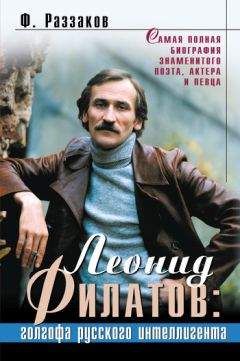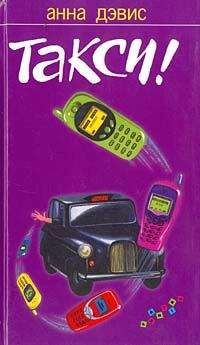Зато потом, чуть-чуть придя в себя, Леонид Алексеевич позволял себе пороскошествовать, посибаритствовать, расслабиться, даже бороду отпустил. Седую. Оправдывался: «Никогда не любил бритье, но раньше приходилось… Если знаю, что не предстоит важных встреч вне дома, к зеркалу лишний раз не подхожу. Я знаю, что там увижу. Знаю и то, что эта картина меня вряд ли обрадует…»
Бриться Леонид Алексеевич, конечно, не любил, а вот слегка поизгаляться над собой, ядовито похихикать над собственным слабостями – это всегда пожалуйста!..
* * *
«Как-то лежу в палате, – рассказывал Филатов, – открывается дверь, и врач так радостно, прямо с порога: «Поздравляю, у нас рака нет!» Оказывается, и на это проверяли, только мне не говорили. После удаления почек я целый год был подключен к аппарату искусственной почки, а сейчас мне пересадили донорскую…» Мучился, пытаясь узнать у Ярмольника, от кого она ему досталась. Тот отвечал: «В банке органов. А зачем тебе знать, от кого?» – «Чтобы знать, за кого свечку поставить…»
Нина все видела и чувствовала его боль, как свою: «Когда он был на грани… когда ему казалось, вот-вот, и он переступит черту… глаза были такие, как будто он ничего не видел… Почему-то внутри я чувствовала, будто мой организм – это его организм, будто я могу влезть внутрь него и у нас один кровоток. И всегда знала, что все будет в порядке… И когда было совсем плохо, я говорила: все будет нормально…»
Трижды в неделю Нина садилась за руль, заводила измученный мотор их более чем пожилого «жигуленка» и везла его в больницу, где ему меняли кровь заново. Так механически на короткий срок убирали интоксикацию. Потом она вновь нарастала. Ее снова убирали. Вены на руках у него были исколоты, как у последнего наркомана.
«Со мной делали что хотели, – как нечто веселое беспечно вспоминал Филатов. – Я был бревно, мыслящий тростник. Голова профессора Доуэля, и то тупая… А вот после операции по пересадке почки, когда увидел улыбающегося хирурга, появилось ощущение, что жизнь вернулась!»
Хотя все давалось непросто, но Нина не унывала. И мужу не давала. Вдруг взяла и купила ему четыре удивительно красивых костюма. Специально, словно провоцировала. Знала ведь, что ему нравилось, когда он был красивый, элегантный джентльмен.
Незадолго до трагического дня смерти Филатова Нина приобрела участок на Николиной Горе. На месте прежней жуткой, полуразрушенной хижины сумела сотворить уютный, теплый дом для своего любимого Лёни.
Лишних денег на эту стройку, конечно же, не было. Пришлось отдать все премии, какие-то гонорарные накопления, продать старый загородный дом в Верее. Мотаться туда – 200 километров от Москвы – путь был неблизкий и нелегкий. «Да еще тот дом был рядом с местом, где повесили Зою Космодемьянскую, – уточнял Леонид Филатов. – А тут дыши – не хочу…»
«Вначале он и слышать не хотел ни о какой даче, – вспоминала Нина Сергеевна, – но когда я его привезла в двухэтажный деревянный дом, то он по достоинству оценил все прелести тихой загородной жизни. Начал гулять…»
Леонид Алексеевич многие свои слабости объяснял прямолинейно, без затей: лень-матушка. На свежем воздухе практически не бывал, московскую зиму (а позже и осень, и весну), промозглость (потом и летнюю жару) ненавидел еще со студенческих лет. Рассказывал, как поехали как-то с товарищем на «халтурку» в подмосковный сельский клуб. И застряли в сугробе. Дикий мороз! Что только не делали, пытаясь машину вытащить, – все напрасно. Думали, Богу душу от холода отдадут. Тогда-то филатовский приятель и произнес заплетающимся языком вещие слова: «Никогда, бля, в этой стране ничего не получится, раз тут такая зима!» Хотя зиму в России часто принято рассматривать как последнего защитника, усмехался Леонид Алексеевич, сначала Наполеона поморозили, потом Гитлера… Им, может, и поделом досталось, но мы-то за что страдаем?.. Нет, я определенно натура иного пейзажа. Не получается по-рубцовски плакать при виде березки. А сам писал, тем не менее надеясь:
Быть может, тишайший гравий,
Скамеечка и жасмин —
Последняя из гарантий,
Что выживет этот мир.
Неужто, погрязши в дрязгах,
Мы более не вольны
Создать себе общий праздник —
Мгновение тишины?..
Филатов старался не утруждать себя какими бы то ни было физическими упражнениями, слова «массажер-тренажер» для него звучали просто устрашающе. Даже непродолжительными пешими прогулками пренебрегал. Чтоб большую дистанцию пройти – необходимо много скамеек: посидел – пошел дальше. С напускным высокомерием любил повторять: «Ходить – здоровью вредить». «Учитывая, что я инвалид и имею права не выходить на улицу – не выхожу», – напоминал он. А вот мозгами поработать, пьеску сочинить, книжку стихов написать – всегда с удовольствием. «Сижу дома, чирикаю ручкой, царапаю. И все это делаю ленясь… Написал ерунду, но тогда, когда захотел… Занимаюсь в основном поддержанием в комнате определенного артистического беспорядка». Хотя, конечно, признавался: «Я не до такой уж степени неходячий, просто если можно чего-то не делать, то я не делаю».
Даже будучи молодым, сильным и здоровым, Филатов признавался, что терпеть не может каких угодно путешествий: «Не бывает мне в поездках хорошо – я с юности отравился этими гостиницами… Я бы и передвижениям по Москве предпочел телепортацию. Это самый красящий меня пункт: я бы и рад сказать, что «старость меня дома не застанет», но, увы…»
И потом, грех, конечно, так думать и говорить, но долгая и мучительная болезнь, физическая немочь как бы способствовали тому, что Филатов окончательно утвердился в избранной модели поведения, стиле и образе неспешной, «ленивой» жизни. И отшучивался: «Зато я делаю то, что хочу».
Или могу?..
«Выяснилось, что жить можно, – бывал порой исполнен легкого оптимизма Леонид Филатов, – правда, запросы мои довольно мизерны, жена уехала за границу в первый раз за двадцать, кажется, лет, сам я не пью и в казино не играю. Книжки расходятся… Бедный Пушкин умер в долгах, а сегодняшним нам, грешным, оказывается, худо-бедно можно прожить, просуществовать за счет литературного труда…»
«Я просто от природы тощий, – отмахивался он от праздных вопросов о возможном своем аскетизме. – Когда человек тощий, тщедушный, все думают, либо он монах, либо чахоточный, то есть несчастный. А я просыпаюсь поздно, потому что ложусь поздно. Смотрю телевизор, у меня есть «тарелка». Много барахла… В мире вообще много барахла, разве не так?» – с улыбкой говорил он, не требуя ответа.
Как флажками обложенный, лишенный на протяжении почти десяти долгих лет множества житейских удовольствий, отрешенный от «мирской суеты», он погружался в размышления о простых человеческих понятиях, о счастье, например. Считал, что это «понятие глубоко субъективное, для каждого свое. Потом счастье не бывает продолжительным. На день-два закружилась голова. Проходит время, и если прожил жизнь наполненно, интересно, смотришь, оборачиваешься: вот тогда было даровано счастье, а ты этого не понимал. Раз ты тогда не понимал, а теперь понимаешь, что такое счастье, какое же оно, счастье?..»