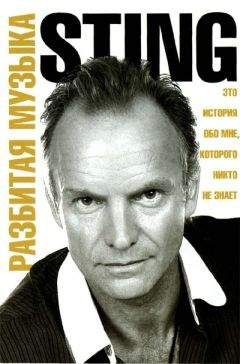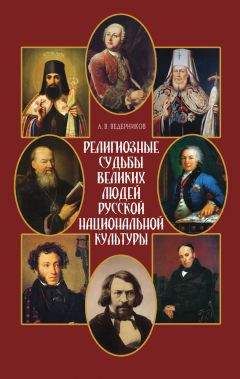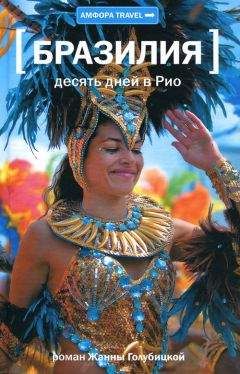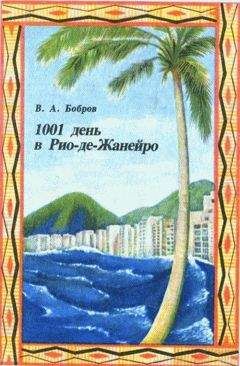Кроме того, нам необходима хорошая запись нашей группы, чтобы иметь возможность предъявлять себя в Лондоне, получить там работу и сотрудничать со столичными студиями звукозаписи. Для меня все планы относительно будущего нашей группы отныне будут связаны с городом, чье имя превратится в мантру на моих губах. Джерри понимает и разделяет ход моих мыслей, но Джон и Ронни полны молчаливого скептицизма. Я чувствую их несогласие, даже если они не говорят ни слова. Конечно, у них есть их ипотечные платежи и привычный образ жизни, и мне, по крайней мере, понятны причины их сдержанного отношения к моим планам. Но если они воображают, что слава сама постучится к ним в дверь без всяких усилий с их стороны, то их мечты еще более нелепы и несбыточны, чем мои. Мы добились отличных результатов как музыкальная группа, но здесь, в Ньюкасле, нас все равно никто не заметит. Дело не только в том, что я поставил себе цель, но и в том, что время неумолимо уходит.
Местные средства массовой информации начинают обращать на нас внимание. У нас берут интервью на ВВС Radio Newcastle, и этой зимой Фил Сатклифф, сотрудник лондонской музыкальной газеты Sounds, напишет о нас в обзоре выступления группы Osibisa, с которой нам однажды довелось играть в концертном зале Политехнического института. Я помню свой восторг при виде названия нашей группы, упомянутого в самом конце этого обзора, и мысль, которая пришла мне тогда в голову: «Ну вот, наконец заметили и нас, крохотную частицу во вселенной музыкального бизнеса». Я каким-то особенно бодрым шагом возвращаюсь из газетного киоска в школу, на дневные уроки. Я еще не знаю, что Филу Сатклиффу суждено оказать большое влияние на дальнейшее течение моей жизни.
Проходя в школьные ворота, я замечаю незнакомую машину на автостоянке, а рядом с ней — растрепанного мужчину, который нервно курит и беспокойно прохаживается у дверей школы, как будто боится войти. Это мой отец. Он выглядит так, словно не спал несколько дней, а если спал, то где-нибудь под забором или на заднем сиденье своей машины. Занавески на окнах учительской раздвигаются. Я не хочу, чтобы кто-то из учителей видел моего отца в таком состоянии. До начала урока остается полчаса, и я быстро увлекаю его вверх по лестнице, где находится мой собственный класс. Отец садится на один из маленьких детских стульев и закуривает еще одну сигарету. У него покрасневшие глаза и жалкий, грустный вид. Он просит, чтобы я приютил его на время, пока он не «разберется сам с собой». Мне становится ясно, что напряжение в отношениях между ним и моей матерью достигло предела и он всерьез задумывается о разводе. Мне кажется, что он пришел спросить моего разрешения, хотя ничего не говорит об этом.
— Почему именно сейчас? — спрашиваю я. — Что случилось?
Он смотрит в окно с видом человека, которому ужасно неловко. Кажется, что он не хочет больше об этом говорить, но вдруг взрывается, как будто выплескивает желчь из своих легких:
— Я нашел несколько писем, адресованных твоей матери.
Между мной и отцом столько невысказанного, годы и годы отрицания и замалчивания очевидного. Мы предпочитали носить шоры, но не признавать правду. Если начинать разговор с самого начала, он окажется слишком длинным и слишком мучительным для нас обоих. Вероятно, ему проще сделать вид, что любовная связь моей матери — это совершенно новая ситуация, как будто он не хочет признавать, что все эти годы мы жили в окружении лжи. Он отчаянно пытается сохранить чувство собственного достоинства как мужчина, отец и муж, но даже его смелости не хватает на то, чтобы признать, что его дети тоже страдали. Я поддаюсь на эту невысказанную мольбу, потому что давно научился понимать молчание отца не хуже, чем слова, но я не спрашиваю его, что было в письмах. Мне не хочется продолжать эту игру в загадки. Все, что я могу сделать, — это помолчать вместе с ним, глядя в окно на проезжающие по шоссе машины. Он нуждается в моей помощи и поддержке, но его страдание говорит о том, что он все еще любит мою мать, что то мучение, которое растянулось на столько лет его жизни, вот-вот раздавит его. Я прижимаю его к груди, пытаюсь погладить по голове, как будто это он — мой ребенок, и даю ему ключи от квартиры. Потом я смотрю на него из окна, вспоминая, каким гордым и смелым был когда-то этот человек, который теперь с трудом, как инвалид, садится в свою машину и выезжает со школьного двора, одинокий, потерянный и сломленный. Кто научит меня, как ему помочь?
Совершенно новая для меня обязанность развлекать отца, который теперь живет со мной, оказывается более приятной, чем я ожидал. Мы вместе ходим в паб, где, выпив, отец немного приободряется, смеется и рассказывает мне истории о старых добрых временах.
— Ты знаешь, что ты был зачат в Озерном округе?
— Нет, папа, этого я не знал, — отвечаю я с некоторой неловкостью.
— Но это именно так, — продолжает он. — Знаешь, мы с Одри часто ездили на выходные в Кесвик. Еще до того, как поженились.
Не то чтобы отец подмигивает мне, говоря это, но вывод напрашивается сам собой. Мне совершенно безразлично, на какой стороне одеяла я был зачат, но я понимаю, что отец хочет перенестись вместе со мной в те места, где он был счастлив с моей матерью и любим ею. В сущности, все его рассказы крутятся около его отношений с матерью, как птицы, которые кружат около башни. Главной трагедией его жизни стало то, что он любил ее, а она любила другого. Конечно, я мог бы сказать ему, что, если бы он любил ее больше или, по крайней мере, не стыдился бы проявлять свою любовь, все могло бы обернуться иначе, но, с другой стороны, я уже знаю, что жизнь и любовь слишком сложные вещи и не укладываются в прокрустово ложе простых формул. Поэтому я не прерываю его ностальгии.
Через несколько дней он вернется домой, я надеюсь, немного окрепнув духом, чтобы снова длить то тягостное состояние псевдопокоя, которое он поддерживал на протяжении всего периода «холодной войны» между ним и матерью. Я представляю обычное молчание отца и растущее день ото дня раздражение матери. Оба они как будто обречены без конца исполнять какой-то меланхолический танец под грустный аккомпанемент расстроенной скрипки, которая постоянно фальшивит.
Мое собственное отношение к матери колеблется между гневом и обожанием, и эта дикая амплитуда не укладывается у меня в голове. Какая-то часть меня хочет утешить и успокоить ее, но в то же время сидящий во мне поборник нравственности хочет наказать ее. Это то самое скрытое и в большой степени бессознательное раздражение, которое будет окрашивать и отравлять все мои отношения с женщинами. Моя мать была первой властительницей моего воображения, и потому я очень предан ей, но в то же время я с детства привык думать, что она предала меня. Архетип «падшей женщины», соединившись с образом музы, создал в моем подсознании драматическую коллизию, которая, с одной стороны, вдохновляла меня на творчество, а с другой — обрекала на провал любые эмоциональные обязательства и обещания, которые я когда-либо хотел сдержать. Мама по-прежнему поддерживает отношения с Деборой, которая, как она мне сообщает, работает медсестрой в госпитале для душевнобольных. Но мама месяцами и годами будет скрывать от меня, что через очень короткое время Дебора и сама станет пациенткой психиатрической лечебницы с диагнозом «тяжелая клиническая депрессия».