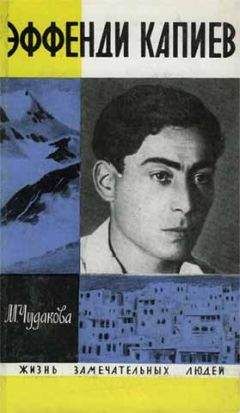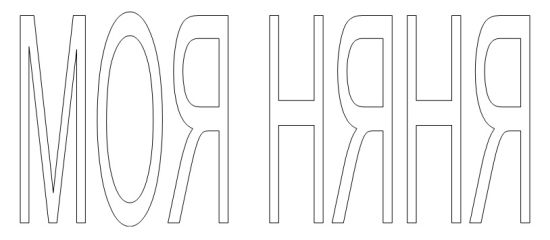Удачно найденное определение — литературный этикет, — как это часто бывает, помогает осмыслить и другие явления, далекие во времени от материала, при изучении которого это определение родилось.
Влияние того, что можно вслед за исследователем древних литератур называть литературным этикетом, можно увидеть в литературе разных времен, в том числе — в литературе тридцатых годов. Во многих произведениях этих лет — и не только в средней литературной продукции, особенно чуткой к «этикету» времени, но и в книгах, отмеченных талантом автора, заметна иногда ориентация на некие готовые формулы, на закрепленные в литературе каноны. Впрочем, лучше всего об этом сказано у Д. С. Лихачева: «Дело просто в том, что из произведения в произведение переносилось в первую очередь то, что имело отношение к этикету: речи, которые должны были бы произнестись в данной ситуации, поступки, которые должны были бы быть совершены действующими лицами при данных обстоятельствах, приличествующая случаю авторская интерпретация происходящего и т. д.».
И в «Поэте» Эффенди Капиева невозможно не заметить той границы, которая отделила стремление писателя к глубокому художественному исследованию раскрывавшейся перед ним жизни от его попыток выразить свои представления «о приличествующем и должном» (Д. С. Лихачев).
Когда перечитываешь новеллы «Поэта», всегда удивляешься, как точно все вымерено в этой книге. Один из друзей писателя рассказывал нам, как в 1942 году Капиев искренне удивился быстроте, с какой написал его товарищ коротенькое письмо редактору дивизионной газеты, чтобы вручить его отправляющемуся туда Капиеву. «Мне бы на эту записку понадобился бы час — три раза бы переписывал», — сказал он серьезно. Так же как работал Капиев над любым письмом, дневниковой записью, малозначащей деловой запиской, всегда оставаясь литератором, — так же обдуманно и кропотливо работал он над книгой, стремясь, чтобы художественная новизна книги не разошлась решительным образом с современными ему представлениями о «должном», которые он разделял, чтобы своды не сомкнулись в прочном «замке».
Был выбран герой, обретший счастье, герой, покойно расположившийся в прочном, «объясненном» мире. Книга была написана о счастье. К концу книги «счастье» все более заметно связывалось с всенародной известностью (и начинало прямым образом зависеть от нее), с личным комфортом («новенький автомобиль — юбилейный подарок правительства поэту»), с поездкой в Москву, с «настежь» открытыми в конце жизни перед поэтом дверями Кремля… Эти чисто внешние атрибуты общественного признания начинали все более волновать — но не поэта, а самого рассказчика, восхищенного своим героем и его судьбой. Он много рассуждает о его разрастающейся славе, о всегосударственном признании, и окруживший поэта почет делает в конце концов едва ли не единственным мерилом его жизни. И легкая авторская усмешка, сопутствующая этой восторженности Габиба, все чаще покидает страницы книги.
«Я молча кладу перед ним журнал, раскрытый на той странице, где крупно дана его фотография, и, улыбаясь, жду, какое впечатление произведет на него этот сюрприз. Но Сулейман, едва удостоив вниманием свой портрет, по-прежнему спокойно спрашивает меня, что еще нового в газетах.
— Да ведь здесь о тебе написано! — вскрикиваю я, наконец, в отчаянии. — Смотри: это же ты сам, а это все о тебе. Вот! Вот!
— Ну что же, пусть, — говорит Сулейман равнодушно. — Пускай, Габиб. Что нам…
И тогда, ошеломленный этой невозмутимостью, я долго остаюсь стоять перед Сулейманом. Я стою, держа раскрытый журнал в протянутых к нему руках.
— Отойди, — говорит Сулейман спокойно, — там на крыше уже два часа одна московская кошка сторожит воробья. Интересно, поймала она… О, уже нет ее, — заключает он с сожалением.
Тогда я шумно опускаюсь рядом с ним на кровать.
«Вот это да, — думаю я. — Это номер! А я-то старался, я-то покупал, спешил, думал обрадовать его. Диоген, и только!»
— Сулейман, — говорю я вслух, — если б обо мне было написано в «Правде» или в «Известиях» хоть столечко и если б хоть когда-нибудь дали вот так мой портрет, ей-богу, я бы умер от счастья, знаешь. Ведь это по всему свету пойдет, — неужто ты недоволен?»
Есть вещи, которые, даже сказанные в шутку, воспринимаются как проявления дурного тона. Габиб же говорит всерьез, голос его едва ли не прерывается от волнения. Правда, его вопросы должны вроде бы послужить лишь тому, чтоб еще более проявилась перед читателем скромность старого поэта.
«Одна бровь Сулеймана нахмуривается. Он молчит. Я заглядываю ему прямо в глаза.
— Ну, — спрашиваю я, — неужто ты недоволен?
— Доволен! Доволен! — вскрикивает Сулейман в досаде, взмахнув руками. — Что ты пристал, Габиб, как бог к бедняку? Очень доволен! Разве если пешего человека посадить на коня, он будет недоволен?. Конечно, доволен! А ты бежишь, и хвастаешь, и кричишь: «Смотрите, мол, он на коне, а был пеший». Неприлично!
…Обескураженный, я сажусь к столу. «Странно, — думаю я, — этот человек стоит перед своей славой, как перед необъятным морем. Скромен ли он? Или просто не доходит до его сознания смысл и величие его славы?.. Он стоит на ее берегу все такой же, как всегда, как и до нее. Море живет своей жизнью… Оно необозримо, неведомо ему. Он не утруждает себя мыслями о том, что творится в его темных просторах, и махнул рукой. «Это, мол, что-то уж больно много: должно быть, это меня не касается…» Или, может быть, он воспринимает все это, как должное?»
Да, поэт скромен, мы видим это ясно. Но есть ощущение некоторой чрезмерности в том почтительном изумлении, которым окружена эта скромность — не в новеллах, где она естественно сквозит в каждом движении, а именно в «Московском дневнике», где все мотивы книги как бы усилились.
Видимо, представления «о приличествующем и должном» изменились все же за тридцать лет, прошедших с тех пор, как писалась книга. Современному читателю уже неловко как-то видеть, что скромность Сулеймана — прекрасное качество, что и говорить, — вызывает слишком уж много шума вокруг себя (и уместным кажется здесь суровое слово Сулеймана — «неприлично»!). Слишком ошеломлен спокойствием Сулеймана Габиб, и главное — автор ни словом, ни тоном не «поправляет» своего увлекшегося двойника… Видно, так «должно» было — шумно, восторженно, экзальтированно — восторгаться скромностью прославленного человека, ликовать по этому поводу.
Вообще, думая о «Поэте» и о том, чем стала эта книга в литературной судьбе Капиева, будем помнить, что писатель с самого начала избрал очень для него заманчивый, но и очень сложный путь — когда выбрал своим героем народного поэта тридцатых годов. Надо думать, что Капиеву ясно было, что он столкнется с уже сложившимся вокруг этой фигуры «литературным этикетом» и ему придется не только преодолевать его, но и считаться с ним.