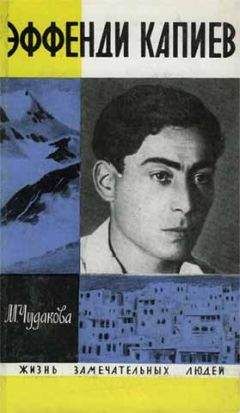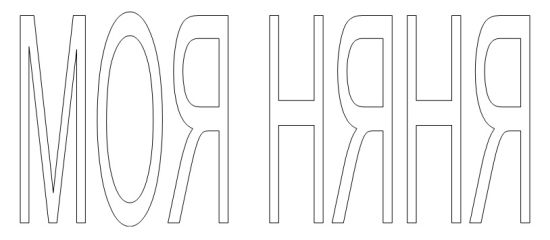Вообще, думая о «Поэте» и о том, чем стала эта книга в литературной судьбе Капиева, будем помнить, что писатель с самого начала избрал очень для него заманчивый, но и очень сложный путь — когда выбрал своим героем народного поэта тридцатых годов. Надо думать, что Капиеву ясно было, что он столкнется с уже сложившимся вокруг этой фигуры «литературным этикетом» и ему придется не только преодолевать его, но и считаться с ним.
Очень долго, по-видимому вплоть до 1934–1935 годов, он думал о совсем другой теме, о поэте иного, далекого времени — о Махмуде, жившем в начале века, пли даже о Батырае, жившем более столетия назад, — о поэтах, личность которых еще никого по занимала, не была подвергнута широкому общественному или литературному ocмыслению.
В его дневниках тридцатых годов сохранились подробные записи, несущие в себе художественную трактовку судеб этих поэтов, — о смерти Батырая, о молодости Махмуда, от которого ушло вдруг вдохновенье… «Слава живого поэта не слава героя. Она подобна костру, пламя которого надо все время питать и поддерживать, иначе оно перестанет озарять лицо. Горе тому, чьи запасы хвороста быстро иссякли и кто пытается разжечь огонь сырыми поленьями. Но горе и тому, кто после первых же неудач теряет терпенье и в отчаянии разрушает дымящийся костер. Дым не страшен. Если жару достаточно — имей лишь волю, и костер запылает рано или поздно».
Но в конце концов Капиев обратился к современности. Открывая для читателя облик старика поэта, «сказителя», он в чем-то следовал литературной моде — когда сознательно, когда и сам того не замечая. С этим связан, как кажется, и появившийся в «Московском дневнике» безграничный пиетет, с которым не только Габиб, но и сам автор относится к каждому слову Сулеймана. И все мысли Сулеймана о современности, не так уж хорошо ему знакомой, очень обобщенные мысли, превращаются в последнее, ничьим сомнениям не подвергаемое слово земной мудрости.
И даже душевно близкий Капиеву мотив старости поэта приобретает порой какое-то неестественно бравурное звучание.
В те годы очень популярным становится жанр лирической кинокомедии со своей быстро шаблонизировавшейся поэтикой. В фильме «Богатая невеста» (1937) прозвучал характерный для этих комедий диалог: «Из-за чего они страдают?» — «Из-за любви! Других страданий у нас и быть не может!»
В «Поэте» слишком часто повторяющиеся сожаления Сулеймана: «Мне стыдно, что я не молод!» — начинают в конце концов звучать навязчиво. И в «Московском дневнике», завершающем книгу, отчетливо вырисовывается знакомый трафарот: о чем, кроме как о старости, может печалиться народный поэт в наше время?..
…Капиев работал над своею прозой долго и тяжело.
Работа его большей частью была ночная — особенно утомительная работа. Он сидел перед маленькими четвертушками бумаги, осторожно, небыстро исписывая их мелкими, круглыми буквами, и каждая буква стояла отдельно от другой. Такие отдельные буквы можно увидеть в рукописях Леонида Андреева, Есенина и Маяковского. Графологи считают, что это признак высокой самооценки, обостренного внимания к собственной личности, но еще неизвестно, можно ли верить графологам.
По тяжести в груди, по затрудненности дыхания он чувствовал вдруг, что ночь давно перевалила за свою середину, а четвертушки бумаги, лежащие перед ним, не приносили утешения. Несколько фраз было на них, и то сомнительных.
Но человек не бросает перо, он остается за столом.
Стол прочный, удобный, с подлокотником под правой рукой, привезенный с собой из Дагестана.
С усилием ставятся рядом слова — одно, другое и третье, — и человек приглядывается к ним с подозрением.
Некоторое время слова эти живут рядом. Проверяется их жизнеспособность, их совместимость.
Иногда фраза выживала, он оставлял ее и писал дальше. Гораздо чаще все слова в его черновике погублены, все вычеркнуты — одно за другим. И вся ночь проходила впустую. И другая. И третья.
Он был терпелив. Свои рукописи он не сжигал и не рвал — хоть и был, как положено горцу, вспыльчив, — а сохранял тщательно, до последнего листочка.
Он писал обдуманно, многое сразу держа в голове, предвосхищая даже возражения будущих критиков и заранее готовя ответы. В одном из вариантов вступления к «Поэту», где говорилось о его стремлении «постичь» душу своего народа, он написал: «Здесь могут возразить: для этого следовало отвести место на первом плане и молодой советской интеллигенции горцев. Автор как раз является представителем этого типа пореволюционной горской молодежи, и, если присутствие его ощущается в книге, подобный вопрос обречен быть формальным». Это звучит как готовый ответ оппонентам на будущих дискуссиях о книге. Эти слова Капиев во вступление не включил, но о будущих возражениях не перестал думать, дописывая в «Московском дневнике» своего Габиба.
И даже когда книга была уже написана, он все беспокоился, поймут ли расставленные им акценты, и писал письма художнику, настаивая на том, чтоб и в иллюстрациях не осталось неясностей: «Надо сделать Сулеймана сидящим, подняв указательный палец, а рядом справа в профиль или полупрофиль сидит Габиб с тетрадью или блокнотом на коленях, что-то готовясь записать.
Они сидят в саду, над ними нависла ветвь, или как там угодно, но без дальних перспектив — рисунок занят двумя фигурами. Пойми ты, что Габиб необходим здесь не потому, что я хочу во что бы то ни стало втиснуть свою рожу, а потому, что Габиб главный после Сулеймана герой книги».
Габиб действительно главный после Сулеймана герой книги. Но слишком прямолинейно настойчивы слова Капиева. Слишком много думает он о возможных неверных истолкованиях его книги.
Хор голосов, не умолкая, звучал в его голове, когда он писал ее — не просто спорящих с автором, а будто предостерегающих его голосов. И он все время прислушивался к ним и старался не дать им оснований помешать жизни его книги — столько времени он мечтал о ней, столько сил вложил и столько надежд с ней связывал! К тому же, прислушиваясь, он чаще всего увери-вался в правоте этих голосов и старался, чтобы замысел книги не разошелся случайно с этой его уверенностью. Это было нечто вроде размера в стихах — какой бы поэт стал писать, не заботясь о нем? Но зато все богатства ритма в пределах размера были в его распоряжении. К тому же из любого положения всегда был выход. Уверенность в этом его не покидала и в жизни. Это была черта поколения. Не верить в то, что цель будет достигнута, было постыдно. Только нужно не падать духом, не смиряться, искать этот выход — до конца!
И в литературе был выход. Если концы не сходились сами — надо было свести их усилием. Но для этого требовалось искусство, а оно не всякому было дано. Надо было гнуть не ломая, пока все не войдет в пазы, не замкнется прочно, надежно.