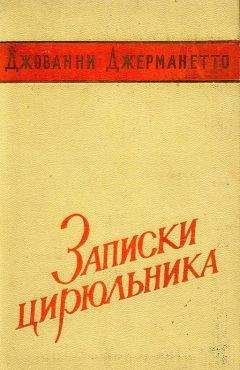Около полудня в камеру заглянул надзиратель.
— Вы вновь прибывший? — спросил он меня.
Я ответил утвердительно.
— Вас поместили сюда временно. Сегодня вечером или завтра утром вас переведут в четырнадцатый номер.
Дойдя до двери, он обернулся, очевидно передумав.
— Соберите ваши вещи. Уборщик, помогите ему перенести нары в четырнадцатый номер!
Когда мы были в коридоре, надзиратель сказал мне:
— Мой милый бородач, вас посадили в прескверную компанию! Эти выродки обвиняются в самых отвратительных преступлениях и продолжают заниматься гадостями даже в тюрьме, несмотря на самый строгий надзор.
— Зачем же вы их держите всех вместе? — спросил я.
Вместо ответа надзиратель только пожал плечами.
В камере № 14 знали, что придет новый, и ожидали, выстроившись у самой двери. В монотонной жизни тюрьмы прибытие новичка — событие: он приносил вести с воли; а обо мне знали от сторожа, что я побывал в Стране Советов. Один из заключенных, симпатичный юноша, оказался товарищем, приговоренным к трем годам тюремного заключения за участие в забастовке в том городке, где он был муниципальным советником.
— Я знаю тебя по имени, — сказал он мне. — Тут тебе будет лучше; правда, политических, кроме меня, нет, но прочие — неплохие ребята, не из той сволочи, что в камере № 11.
С этим я согласился очень скоро. Мне помогли устроить нары, разложиться и затем потребовали рассказать о России. Все слушали меня с глубоким интересом, с волнением, хотя это были простые уголовные. Один из них убил двух лесных сторожей, другой — свою жену вместе с попом, который был одновременно ее дядюшкой и любовником; третий убил соблазнителя сестры. Из двадцати трех заключенных двое (включая меня) были политические, восемь сидели за «нарушение права собственности», остальные — за убийство.
Как водится, каждый рассказал мне свою историю. Один из них ожидал суда двадцать месяцев, другой — два года, третий — тридцать пять месяцев.
— Вы пишете в газете, — говорили они мне, — напишите о нас.
Я обещал.
Уже несколько месяцев я сидел, не зная официально причины ареста; я потребовал свидания с директором тюрьмы и получил его. Это был прелюбезнейший заика!
— Вы н-не прос-сидите дол-л-го, я эт-то з-наю. Чем м-могу с-служить?
— Я хотел бы поговорить с прокурором, — попросил я.
Он предложил мне написать заявление, после чего я ушел обратно в камеру.
Только что я устроился в новом жилище, как меня перевели в одиночку. Больше месяца меня продержали опять-таки без объяснений причин в строгой изоляции, даже на прогулке я никого не мог встретить. Прокурора я, конечно, не видел. Читал и перечитывал все, что можно было достать, но запас книг в тюрьме был небогат: библия, сонник, «Католические миссии в Конго», «Образцовый повар», «Прекрасная Магелона», «Собрание речей Криспи», «Граф Монте-Кристо» и тому подобное.
Каждый день я писал заявления, требуя допроса. Никакого ответа. Как-то я попросил грамматику русского языка. Мне принесли… немецкую! Просил, чтобы мне подстригли бороду, — отказали. Я тогда обратился к прокурору с этой просьбой и тоже получил отказ, мотивированный тем, что я не имею права «менять мои приметы».
Я обратился в «Министерство милости и правосудия»[88], но не получил никакого ответа. Тогда я прибег к последнему средству, употреблявшемуся в подобных случаях: я разбил в камере все, что можно было разбить. На грохот вбежали сторожа, надзиратель, его помощники. Произошло бурное объяснение, в результате которого я очутился в карцере.
Карцер, обычно помещающийся в подвале, на тюремном языке называется «ямой». В сырой и холодной яме нет окна, нары заменены покатой доской без матраца, паек состоит из куска хлеба и кружки воды. Курить нельзя. Книги запрещены. Прогулка раз в два дня в течение часа.
На второй день я потребовал врача.
Врач прибыл и отправил меня в тюремный лазарет. Здесь ко мне явился заика директор, сообщил, что меня скоро вызовут на допрос, и оштрафовал за разбитые вещи на двадцать восемь лир.
Через два дня меня действительно вызвали на допрос.
В небольшом зале за столом восседали трое: королевский прокурор, следователь и секретарь.
— Вы такой-то? — задали мне стереотипный вопрос. — Садитесь.
Я сел.
— Прежде всего мы должны сообщить вам, что вы подвергнуты заключению по двум ордерам, из коих один дан генеральным прокурором апелляционного суда в Милане, а другой — королевским прокурором римского суда.
— От какого числа эти два ордера? — спросил я.
— Первый от шестого января, второй — от седьмого того же месяца текущего года.
— Я ставлю вас, синьоры, в известность, что теперь уже апрель; я протестую против подобной волокиты.
— Вы имеете на это право. Считаю нужным сообщить вам, что я даже не знал, что вы находитесь в Терамо. Я просил туринский трибунал допросить вас, а не прислать сюда.
— Час от часу не легче! — не выдержал я.
— Вы обвиняетесь, — начал прокурор, — в возбуждении классовой ненависти, в подстрекательстве к восстанию против государственного строя. За это вы будете отвечать перед миланским судом. Кроме того, вы обвиняетесь в принадлежности к преступному сообществу и в заговоре против общественной безопасности; за это будете отвечать уже перед римским трибуналом или — этот вопрос еще не решен — перед судом Терамо.
— Для меня это одно и то же, — заметил я.
— По первому делу, — начал торжественно прокурор, — у меня такие вопросы: вы подписали манифест о слиянии с социалистической партией? И вы принимали участие в конгрессе Коминтерна, имевшем место в России?
— Да. Я подписал манифест и был на конгрессе Коминтерна в России. Но что же общего между этими двумя фактами и заговором против государства?
— Вы, значит, признаете это? — в один голос воскликнули и прокурор и следователь.
— Да, да, признаю, но я хотел бы, чтобы вы, синьоры, ответили на мой вопрос.
— Секретарь, пишите! — И, обращаясь ко мне, прокурор попросил: — Будьте добры, повторите ваше показание.
Я повторил.
— Следовательно, вы признаете то, что написано в манифесте, а также и директивы Коминтерна? — спросил королевский прокурор.
— Да, конечно, — ответил я.
— Прокурор и следователь изумленно переглянулись, как бы не веря своим ушам. Они думали, что им придется много поработать, прежде чем я сознаюсь, поэтому и явились вдвоем на допрос.
— Должен заметить вам, синьоры, что принятие директив Коминтерна произошло свыше двух лет назад, то есть когда была основана Итальянская коммунистическая партия, — пояснил я.