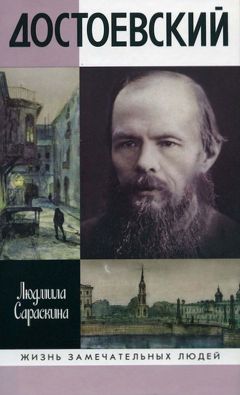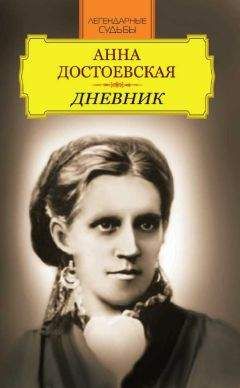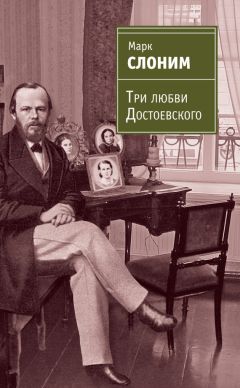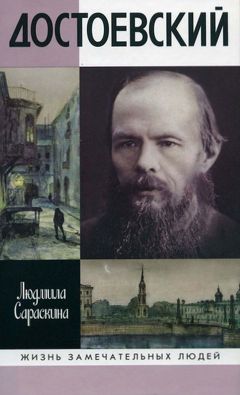Он и освоился: застенчивость и конфузливость уступили место нервному задору, духу противоречия и желанию вступать в спор по любому поводу. Панаева: «По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте». Наверное, так оно и было — весной 1846-го Ф. М. сам писал брату о своем «ужасном пороке» — «неограниченном самолюбии и честолюбии», которые вместе с приступами жестокого недовольства собой «создавали ад». Его убивала мысль, что «Двойник», который мог бы быть великой вещью, испорчен торопливостью. «Мне Голядкин опротивел... Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется». «Свои» видели лишь высокомерие захваленного автора, а он был едва жив: от сильнейшего раздражения всей нервной системы «болезнь... произвела прилив крови и воспаление в сердце, которое едва удержано было пиявками и двумя кровопусканиями».
Даже Макар Девушкин на своем более чем скромном опыте познал, что собратья по цеху — народ жестокосердный. Вскоре Достоевский узна'ет: едва только вышел «Петербургский сборник», где вместе с «Бедными людьми» были напечатаны сочинения «своих» — Тургенева, Панаева, Некрасова, Белинского, — трое участников объединились, чтобы составить злое «Послание Белинского Достоевскому» — наспех сделанные вирши, больно язвившие товарища по альманаху:
«Витязь горестной фигуры / Достоевский, милый пыщ, / На носу литературы / Рдеешь ты, как новый прыщ...» Сначала вирши будут ходить в списках и копиях, а в 1855-м, когда Достоевский отбывал солдатчину в Семипалатинске и не мог ответить на удар, отрывки из «коллективного труда» Панаев опубликует в «Современнике».
Некрасов, в передаче Панаевой: «Достоевский просто с ума сошел... Кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел». Восклицание было вполне риторическим — «свои» прекрасно знали, что Григорович, из любви к искусству, передавал всё всем: Достоевскому — то, что говорят о нем и его романе, кружку — как Ф. М. бранится на них, «завистников, бессердечных и ничтожных людей».
Панаева: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это мастер был Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался».
Достоевский, полагая, что «свои» просто завидуют успеху — Григорович уверял приятеля, будто в провинции «Петербургский сборник» называется не иначе как «Бедные люди», а остального читатели и знать не хотят, — стал предметом изощренных насмешек, для которых, увы, был более чем уязвим: не умел отвечать шуткой на шутку и постоянно на всех обижался. Заводилами стали Некрасов, Тургенев и Панаев. В ход шло всё — и невзрачная внешность «нового Гоголя», и его дерзкое равнение на великих, и раздражение нервов, и увлечение своей славой («Хоть ты юный литератор, / Но в восторг уж всех поверг: / Тебя знает император, / Уважает Лейхтенберг, / За тобой султан турецкий / Скоро вышлет визирей...»). Припомнили и скандал, случившийся в «свете», где ехидно вспоминали, как в салоне графа М. Ю. Вьельгорского, тестя Соллогуба, Достоевский упал в обморок, едва его подвели к белокурой красавице Сенявиной, пожелавшей познакомиться с автором нашумевшего романа («...Но когда на раут светский, / Перед сонмище князей, / Ставши мифом и вопросом, / Пал чухонскою звездой / И моргнул курносым носом / Перед русой красотой, / Как трагически недвижно / Ты смотрел на сей предмет / И чуть-чуть скоропостижно / Не погиб во цвете лет»(С. Д. Яновский в письме 1882 года А. Г. Достоевской, касаясь вопроса об истинных и мнимых литературных салонах прошлого, сообщал: «От Вас не могу скрыть того, что я знаю положительно уже скверное об этих [аристократических] салонах. Федор Михайлович, например, описывая мне один раз посещение салона гр. Вьельгорского, на котором он присутствовал вместе с Белинским, прямо сказал — нас пригласили туда для выставки, напоказ. Случайная сцена с Белинским, который уронил нечаянно рюмку с подноса, была шокирована самым оскорбительным образом. Федор Михайлович мне говорил, что он собственными ушами слышал, как дочь Вьельгорского, графиня Соллогуб произнесла следующие слова: “Они не только неловки и дики, но и не умны!”» (Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2 / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1925. С. 387).) Но ведь такие же обмороки приключались с ним и раньше — Григорович рассказывал, как на улице при виде похоронной процессии приятелю стало дурно и последовал припадок настолько сильный (быть может, предвестие падучей, которую Достоевский в те поры называл «кондрашкой с ветерком»), что его с трудом привели в чувство, а угнетенное состояние длилось еще несколько дней...
Стараниями «своих» был пущен слух, повторяемый многие годы разными авторами (Анненковым, Григоровичем, Панаевым, Тургеневым) и на разные лады, будто Достоевский, отдавая некое свое сочинение то ли в альманах Некрасова, то ли в сборник Белинского, то ли в журнал Краевского, потребовал не смешивать его вещь с трудами прочих авторов, а поместить в конце или в начале книги и отметить особой каймой. «Послание» заканчивалось строфой, в которой смущенный критик, тоже выставленный не в лучшем виде, склонялся перед величием гения и обещал: «Буду нянчиться с тобою, / Поступлю я как подлец, / Обведу тебя каймою, / Помещу тебя в конец». Ложь продержится столь долго и будет упорствовать столь рьяно67, что Достоевский вынужден будет выступить с опровержением — истории с каймой «не было и не могло быть» — перед самой своей кончиной, которая помешает дать разъяснение в «Дневнике писателя» по поводу «ничтожной личной нападки».
Очередь была за Белинским: «наши» ждали сигнала от критика, сотворившего себе кумира, которого они решили разжаловать до «кумирчика». Следуя убеждению говорить только правду и зная, что кружок внимает каждому его слову, Виссарион Григорьевич постепенно снижал градус похвал и превращал плюсы в минусы. «Свои» хорошо улавливали разницу:
«Двойник» сначала вроде и нравился Белинскому, он «местами» даже восхищался, утверждая, что только Ф. М. мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей, и как будто защищал героя с его метаниями от реального к фантастическому. Но вот тон... Анненков, например, почувствовал, что критик имеет некую заднюю мысль, которую пока не считает нужным высказывать. В журнальном отзыве марта 1846-го задняя мысль вышла наружу: Голядкин трактовался как обидчивый, помешанный на амбиции субъект. «Ему всё кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкопы... Обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования... Итак, герой романа — сумасшедший!»68