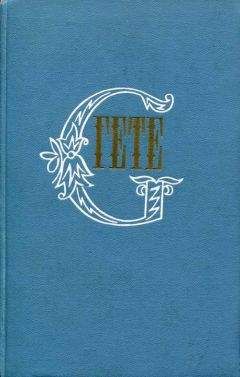Уделив столько места рассуждениям о пластических искусствах, я ощутил живую потребность возвратиться к разговору о театре и о моем касательстве к нему, высказать походя несколько соображений, чего я раньше вовсе делать не собирался. Чего, казалось бы, лучше воспользоваться благоприятствующей обстановкой и, будучи писателем, что-то сотворить для нового театра в Веймаре и для немецкого театра вообще. Ибо, если всмотреться попристальнее, нельзя не обнаружить, что между вышеназванными авторами вкупе с их творениями осталось еще немало пустого пространства, каковое можно было бы заполнить собою; на земле достаточно разнородного материала, который следовало бы просто и правдиво обработать, стоит только за него ухватиться.
Но чтобы сразу высказаться ясно и безо всяких обиняков, я напомню вам о моих первых драматических сочинениях, ибо, хоть они сами и причастны мировой истории, они уж слишком раздались вширь, чтобы годиться для подмостков. Позднее написанные мною драмы были рассчитаны на их восприятие скорее внутренним, чем внешним оком; широкого распространения на театральных сценах они не получили, отчасти и по причине их сугубо строгой поэтической формы. Но за долгие годы я постепенно освоил технику, так сказать, «среднего регистра», которая могла бы произвести на публику относительно отрадное впечатление. Но тут я ошибся в выборе драматического материала, или, точнее, этот материал овладел мною вопреки моей нравственной сути, так как он как таковой более, чем какой-либо, строптиво сопротивлялся драматической его обработке.
Уже в 1785 году меня ужаснуло, как голова Горгоны, «дело об ожерелье». Эта неслыханно дерзкая афера, как я уже тогда говорил, подрывала монархическую власть, досрочно уничтожала ее, и все события, с тех пор развернувшиеся, подтверждали мое предчувствие. Я уезжал с ним в Италию и с ним же, еще более обострившимся, оттуда вернулся. К счастью, мой «Тассо» был тогда еще не завершен, но потом всемирно-историческая современность всецело заполнила мое сознание.
На протяжении ряда лет я проклинал дерзких обманщиков и мнимых энтузиастов, с омерзением удивляясь ослеплению достойных людей, поддавшихся явному шарлатанству. Теперь прямые и косвенные последствия этой дури предстали передо мной в качестве преступлений и полупреступлений, в их совокупности вполне способных сокрушить самые прочные устои.
Но чтобы самому как-то утешиться и развлечься, я старался усмотреть забавную сторону в поведении этих чудовищ, и форма комической оперы, которую я уже давно признал одним из наиболее удачных драматических жанров, мне показалась пригодной и в применении к более серьезному сюжету, как, например, в опере «Король Теодоро». Поэтому я приступил к созданию стихотворного текста задуманной оперы, уговорив написать к ней музыку композитора Рейхардта. Не раз исполнялись удачные басовые арии, предназначавшиеся для этой оперы; другие номера, без контекста не имевшие самостоятельного значения, не достигали достоинства упомянутых арий, а сцена, от которой я ждал наибольшего впечатления, и вовсе не была написана. Ослепительным финалом оперы должна была стать сцена бушевания духов в хрустальном шаре рядом с пророчествующим в притворном сне чудодеем Кофтой.
Но благодетельные духи, видимо, не парили вокруг этого замысла; работа над оперой оборвалась, и, чтобы не пропал затраченный труд, я переработал стихотворное либретто в пьесу в прозе. Ее главные персонажи были отменно воссозданы актерами новой труппы, показавшими себя зрелыми мастерами в этой тщательно осуществленной постановке.
Но именно потому, что игра актеров была на высоте, пьеса произвела тем более отталкивающее впечатление. Страшный, но вместе с тем и пошлый сюжет, смелая и беспощадная расправа с виновными всех отпугивали и не будили отклика в сердцах зрителей. Сам прообраз события, не столь отдаленный по времени, еще ухудшил впечатление, а так как тайные союзы сочли себя неуважительно затронутыми, наиболее представительная часть публики влияла на восприятие прочих. Женская деликатность чувств к тому же почла себя оскорбленной грубой развязкой намечавшегося романа.
Я был всегда равнодушен к непосредственному восприятию моих произведений и спокойно отнесся и теперь к тому, что моя пьеса, на которую я потратил столько лет, не удостоилась одобрения публики. Я испытывал даже известное злорадство, когда люди, не раз поддававшиеся обману, смело утверждали, что такому грубому шарлатанству их никогда бы не удалось провести.
Но я не извлек никакого урока из этого злоключения. Все, что меня волновало, незамедлительно обращалось в драматическую форму. И если «дело об ожерелье» волновало меня как мрачное предсказание, то теперь меня ужасала сама революция в ее крайних проявлениях как грозное осуществление пророчества. Трон рухнул, рухнули устои великой нации, а после нашего злосчастного похода грозили рухнуть устои всего мироздания.
Все это меня страшило и угнетало. Я замечал, к моему огорчению, что в моем отечестве увлеченно играют на тех же инстинктах и теми же идеями, готовя и нам такую же участь. Я хорошо знал многих благородных мечтателей, увлеченных теми же надеждами и настроениями, не понимая ни себя, ни сути совершавшегося. А в то же время явно дурные люди старались вызывать и множить недовольства, чтобы воспользоваться их возможными последствиями.
Яростным свидетелем моего озлобленного юмора оказался мой «Гражданин генерал». Меня побудил написать эту одноактную пьесу артист Бек, замечательный и самобытный исполнитель роли Шнапса в комедии Флориана «Два билета», в каковую Бек вложил как сильные достоинства, так и слабые стороны своего таланта. Поскольку маска Шнапса так пришлась ему впору, мы ввели в репертуар как бы его продолжение, небольшую комедию Антона Валла «Генеалогическое древо». Я отнесся с чрезвычайным вниманием к репетициям, оформлению и исполнению этого забавного пустячка и невольно проникся духом веселых дурачеств, присущих этому разгонному водевилю, и на меня нашел стих вывести в третий раз на подмостки пресловутого Шнапса. Так я и поступил; как всегда, работал с усердием и над этой пьеской. Будет не лишним сообщить, что туго набитый саквояж, фигурировавший на сцене, был подлинно французского происхождения: его подобрал мой Пауль во время нашего бегства из Франции. Великолепен был и Малькольми в кульминационной сцене, исполнивший роль благодушного зажиточного старого крестьянина, который, шутки ради, принимал самое отъявленное хамство за остроумную выдумку. Его изумительная игра была выше всяких похвал, он успешно соперничал с Беком в естественной подаче веселого текста. Но все напрасно! Пьеса произвела самое дурное впечатление, даже на друзей и благожелателей. Желая спасти себя и меня, они в один голос утверждали, будто пьеса написана не мной, а каким-то незадачливым литератором, я же только чуть-чуть подправил ее и, каприза ради, подписал своим именем.