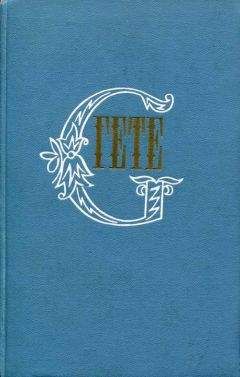Но никакой внешний неуспех не мог меня сделать чужим самому себе, я, напротив, тем упорнее замыкался в себе, и такое внешнее воссоздание духа времени служило мне своего рода утешительным развлечением. «Разговоры немецких беженцев» и оставшиеся фрагментом «Возбужденные» являются в не меньшей степени признаниями в том, что происходило в моей душе, как, позднее, и поэма «Герман и Доротея», почерпнутая все из того же источника. Правда, источник этот вскоре иссяк: писатель не мог угнаться за скоротечной всемирной историей и остался должным себе и другим, не завершив этой серии произведений; к тому же он увидел, что очередная загадка истории разрешилась таким решительным и нежданным образом.
При такой констелляции исторических сил трудно кого-либо назвать, кто, находясь в такой отдаленности от места рокового бедствия, пребывал в столь подавленном состоянии духа. Мир казался мне более кровавым и кровожадным, чем когда-либо, и если жизнь короля на поле брани равнозначна жизни многих тысяч, то она безмерно возрастает в своей цене на поприще права. Король поставлен перед судом на жизнь и смерть, тут начинается брожение умов, обретают голос отрицатели правового государства, каковое королевская власть веками грозно отстаивала от произвола.
Но я пытался себя спасти и от текущих бедствий века, объявив весь мир негодной юдолью. И тут-то мне в руки случайно попал «Рейнеке-лис». Я насытился по горло уличными и рыночными сценами и ярыми выступлениями черни; теперь мне было в охоту и в забаву заглянуть в зерцало придворной и правительственной жизни. Ибо если и здесь род человеческий выступает в своей нелицемерной, откровенно животной сути, и тут отсутствуют образцовые нравы и порядки, но зато здесь все протекает весело до цинизма и добрый юмор нигде не в загоне.
Чтобы сполна, всей душой, насладиться этой бесценной книгой, я тотчас же стал ее переводить, а почему гекзаметрами, в этом попытаюсь отчитаться.
Вот уже много лет, по почину Клопштока, сочиняют в Германии сносные гекзаметры. Фосс, тоже позволявший себе писать и такими гекзаметрами, все же кое-где намекал, что можно их писать и получше. Он был беспощаден и к собственным сочинениям и переводам, отлично принятым читающей Германией. Я и сам очень хотел писать гекзаметры, как учил Фосс, но это мне все не удавалось. Что касается Гердера и Виланда, то они относились к этим новациям как истые латитудинарцы: они не терпели упоминания об опытах Фосса, подчинившего гекзаметр строжайшим правилам, отчего он нередко звучал неловко. Публика тоже ставила прежние гекзаметры Фосса превыше новейших. Я же всегда имел доверие к старику, добросовестность и серьезность которого едва ли кем подвергалась сомнению, и, будь я моложе и менее занят, я бы уж наверное поехал к нему в Эутин, чтобы выведать у него секрет его гекзаметров. Дело в том, что при жизни великого Клопштока Фосс никогда бы не решился сказать ему прямо в лицо, что, не подчинив немецкого стихосложения строжайшим правилам, никогда не добьешься совершенных немецких стихов. Что он успел высказать по этому поводу, казалось мне сивилловыми темнотами. О том, как я мучился, стараясь понять его предисловие к «Георгикам» Вергилия, я и теперь вспоминаю с удовольствием; имею в виду свое честное рвение, но никак не его результаты.
Я отлично сознавал, что мое обучение и образование может быть только практическим. Поэтому-то я и радовался случаю написать несколько тысяч гекзаметров, которые, в силу достоинства содержания поэмы, не могут не прийтись по вкусу читателям и не станут лишь преходящей ценностью, даже вопреки моей несовершенной технике. То, что в них подлежит осуждающей критике, со временем выяснится. Итак, я переводил «Рейнеке-лиса», уделяя этому труду, благородному уже в процессе работы, каждый свободный час, попутно достраивая и меблируя мое жилье и не думая о том, что меня ждет в будущем, хотя о том и нетрудно было догадаться.
Как ни далеко мы находились здесь у себя, на востоке, от великих мировых событий, уже и в здешних краях стали появляться предвестники наших изгнанных западных соседей; казалось, они высматривают, где им удастся себе сыскать гостеприимное убежище, которое им обеспечит должный прием и защиту. Хотя их пребывание было только мимолетным, они сумели — пристойным, терпеливо-уживчивым поведением, готовностью примириться с судьбой, а также решимостью честным трудом поддерживать свое существование — снискать симпатии всех и каждого и добиться того, что, глядя на них, предавались забвению пороки и проступки прочей массы французских эмигрантов и былая настороженная к ним неприязнь обратилась в благоволение. Это положительно сказалось и на судьбе тех, кто прибывал сюда позднее и впоследствии обосновался в Тюрингии; достаточно назвать имена Муньи и Камилла Жордана, чтобы оправдать наше изменившееся мнение о всей французской колонии — пусть не все были равны названным нами лицам, но отнюдь не были их недостойны.
Позволю себе утверждать, что, при всех важных политических обстоятельствах, всего лучше быть пристрастным зрителем великих событий, мысленно примкнувшим к одной из борющихся партий. Любое известие, ему благоприятствующее, его радует, тогда как неблагоприятствующее он игнорирует или перетолковывает в свою пользу. Напротив, писатель должен в силу его призвания быть и оставаться беспристрастным и объективным, стремясь проникнуть в психологию, в образ мыслей и в суть обстоятельств обеих сторон, но, убедившись в том, что разделяющие их противоречия не терпят примирения, решиться трагически погибнуть. А каким только грозным циклом трагедий мы не видели себя окруженными!
Кто же не ужасался в ранней юности приснопамятным 1649 годом, кого не потрясала казнь Карла I, кто не утешал себя тем, что эти неистовства слепой ярости никогда более не повторятся! Но все повторилось, и куда ужаснее и беспощаднее, чем когда-либо, и притом у просвещеннейшей нации, как бы у нас на глазах, день за днем, шаг за шагом. Представьте себе только, что пришлось испытать в декабре и в январе тем, кто вступил в бой ради спасения Людовика, а теперь не мог ни повлиять на исход процесса короля, ни воспрепятствовать его казни.
Но вот Франкфурт опять в немецких руках. Приняты все меры к овладению Майнцем. Уже армия окружает его, взят Хоххейм, сдался Кенингштейн. Теперь на очереди превентивный поход на левый берег Рейна, чтобы обеспечить себе тылы. Мы движемся вдоль хребта Таунуса, через Идштейн и бенедиктинский монастырь Шёнау, на Кауб, а дальше — по надежному понтонному мосту — к переправе через Рейн. Начиная с Бахараха, передовые части вели упорные бои, принудившие противника к отступлению. Оставив справа горную гряду Хунсрюк, мы пошли на Шпромберг, где попался нам в плен генерал Нойвингер. Взяли Крейцнах и очистили треугольник, образуемый двумя реками — Наэ и Рейном. На подходе к Рейну мы не повстречались с противником. Кесарцы переправились через Рейн близ Шпейера. Продолжали окружение Майнца, и четырнадцатого апреля оно завершилось.