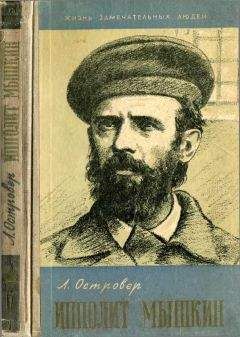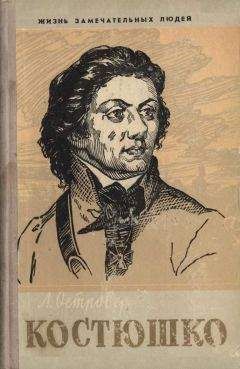Вдруг — стук. Мышкин подошел к стене.
— Ты не Мышкин, — выстукивал Арончик, — ты червонный валет. Богданович шпион. Он хочет выведать у меня мои тайны. А я не Арончик, я английский лорд. Не желаю водить знакомство с такими субъектами. Больше вам писать не буду.
Мышкин пытался успокоить товарища, находил для этого трогательные слова, но безуспешно.
Арончик сошел с ума.
Стена слева замолкла.
А через несколько дней приключилась беда и в камере справа. Ночью услышал Мышкин возню в камере Колодкевича: входили, выходили, громко разговаривали. Вдруг все оборвалось — установилась мертвая тишина.
Утром зашел Ирод, и Мышкина поразило: почему этот изверг упорно избегает мышкинского взгляда? И почему в глазах этого тупого палача нет-нет да появляется какой-то проблеск человеческих чувств?
— Умер Колодкевич? — тихо спросил Мышкин.
Ирод не ответил, он отвернулся и загремел ключами.
Мышкин понял:
— Палачи!
Ирод торопливо вышел из камеры.
Ипполит Никитич не хотел верить в смерть Колодкевича. То он прикладывал ухо к стене в надежде уловить хоть какой-нибудь звук, хоть какой-нибудь шорох, то начинал звать его стуком, просить его, если он не в силах встать, постучать костылем в пол.
Несколько дней Мышкин ходил точно в чаду, не будучи в состоянии думать о чем-нибудь, кроме Колодкевича. Он вспоминал их разговоры, споры, манеру Колодкевича стучать, его кашель, стук его костылей…
Заглохла и правая стена.
И это было трагично. За окрик «палачи!» Ирод лишил Мышкина прогулок. Вечная тишина, вечные сумерки, вечно один и тот же злобствующий Ирод и его унтеры.
День за днем одно и то же и в том же убийственно-монотонном порядке. Одиночество. Молчание: стучать некому, говорить не с кем.
Охватывало отчаяние.
Однажды Мышкин заметил: под крышкой стола поселился паук крестовик. В сознании Мышкина паук всегда увязывался с понятием «кровопийца». Первое движение — выбросить его в парашу, но, видя, как паук трудится, Мышкин стал заинтересованно следить за его работой.
И это стало «занятием». Из вечера в вечер наблюдал Мышкин за работой своего «сожителя». Он наблюдал, как паук останавливается в раздумье, как он проверяет, хорошо ли прикреплена нить, как он для пробы встряхивает всю сеть, как он переделывает какую-нибудь клетку.
Неужели и в таком жалком существе, думал Мышкин, горит творческая искорка?
Размеры, форма, рисунок паутины были всегда разнообразны. Только одно было общее во всех его произведениях: он начинал работу с прикрепления к полу толстой нити, а затем двух, уже менее толстых, — к перекладинам, соединяющим ножки стола.
Паук работал быстро, безостановочно, но иногда он уничтожал всю сотканную ткань и начинал работу сначала, видимо оставшись недовольным проделанной работой…
Ирод, заглянув как-то в «волчок», увидел радостно-возбужденное лицо Мышкина.
Что это? Мышкин сидит на корточках, смотрит в пустоту и… радуется чему-то!
Ирод вошел в камеру, опустился на пол рядом с Мышкиным.
Мышкин не слышал, как звякнул ключ в замке, не слышал шагов Ирода.
Мелькнула в воздухе рука, и… ткань разорвана, паук раздавлен.
Мышкин вскочил:
— Мерзавец!
Эту ночь и последующие три дня Мышкин провел в карцере.
В темноте, задыхаясь от вони, он вспоминал прочитанные когда-то стихи:
Мне не спалось… И на заре
Я на кладбищенской горе
Стоял над свежею могилой.
И из тумана предо мной
Мелькнул мне образ дорогой —
Да, незабвенный образ, милый…
В черном платьице, стройная, тонкая,
С огоньком в умных, ясных глазах…
Вот она! Вот и речь ее звонкая
И какая-то думка в бровях…
Мелькнул тот образ и — исчез…
Когда стихи уже сложились, когда Мышкин трижды прочитал их вслух, он приложился головой к сырой и холодной стене и виноватым голосом спросил:
— Фрузя, разве не лучше в могиле?
38
Измотанный нервным напряжением и бессонными ночами в карцере, Мышкин лег спать 4 августа 1884 года раньше обыкновенного. Однако выспаться не успел.
— Встань и оденься, — услышал он ночью мерзкий голос Ирода.
Куранты Петропавловского собора пробили три четверти второго.
— Никуда не пойду ночью!
Мышкин видел за спиной Ирода двух унтеров, он знал, что его заставят подчиниться приказу, но не протестовать против ночного вторжения Мышкин не мог.
— Царева тюрьма, — сказал он, — а хуже кабака, по ночам всякая сволочь шляется. Спать человеку не дают.
— Я сказал, встать и одеться, — угрожающе повторил Ирод.
— А я не встану и не оденусь. Неси меня, мерзавец, на руках, если я тебе ночью понадобился!
По знаку Ирода на Мышкина набросились унтеры, стащили его с койки и силком одели. Потом поволокли в контору. Там Мышкина заковали в кандалы и бегом погнали к воротам равелина. Там, уже ждала карета.
На козлах, кроме кучера, сидел жандарм. От ворот, уходя в темноту, стеной стояла шеренга голубых мундиров.
Мышкина втолкнули в карету. Там уже находились два жандарма. Они схватили Мышкина за руки и сжали точно в тисках.
В карету влез Ирод:
— Пошел!
Карета покатилась.
За крепостной стеной было совершенно темно. Мышкин не мог разобрать, куда они едут. В тумане мерцали уличные фонари.
Карета остановилась. Первым вышел из нее Ирод, потом жандармы, подтягивая за собой Мышкина.
Блеснула Нева — синяя, с редкими огоньками. На том берегу высились здания, темные, мрачные. Только Зимний дворец сиял всеми своими окнами.
Баржа. Мышкина волокут по сходням.
На палубе стоял жандарм. Он схватил Мышкина в обхват и отнес его в крохотную каюту. Поставив Мышкина на пол, жандарм одернул на себе белую рубаху, подкрутил усы и ушел. Закрылась дверь, звякнул засов, и Мышкин остался один.
В передней стене было прорезано окошко, против него стоял часовой с саблей наголо.
Мимо окошка вели других заключенных: девять раз слышал Мышкин кандальный звон.
«Куда?»— спрашивал себя Мышкин.
На рассвете провели мимо мышкинского чулана последнего кандальника, и все затихло. Слышался только сдержанный шепот жандармов, звяканье шпор, грузные шаги Ирода.
На Неве началась речная жизнь: то свист парохода, то всплески весел, то переклик с баржи на баржу.
«Куда нас повезут? В Сибирь или в Свеаборг? Туда, где Николай I прятал политических заключенных? А вдруг в Шлиссельбург?»
Мышкин решил наблюдать: поедут они по течению реки или против?
Наконец тронулись.