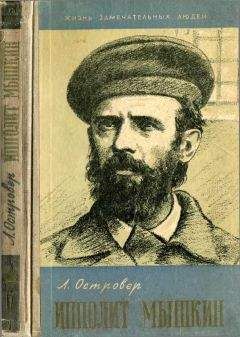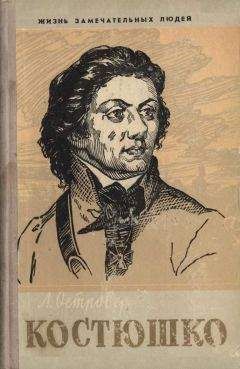К Мышкину кинулись жандармы: стали раздевать, обыскивать, обряжать в арестантское.
36
Мышкин долго не мог заснуть. Может, оттого, что было еще рано, может, оттого, что было холодно, а более всего от тревожных мыслей.
Алексеевский равелин! Он не успел не только испытать, но даже познакомиться со всеми его прелестями, однако и того, что он уже испытал, было вполне достаточно, чтобы чувствовать ужас при одной мысли, что впереди ждут годы, долгие годы — четверть века (за побег ему еще надбавили 10 лет) — таких страданий и унижений. Так не лучше ли предупредить неизбежную развязку и избавиться от бесполезных страданий?
Но, подумал он тут же, имеет ли он право так распоряжаться своей жизнью? Принадлежит ли ока только ему одному?
Утро. Щелкнул ключ, дверь распахнулась, в камеру вошла целая толпа. Один взял лампу, другой переменил ведро, третий поставил на стол кружку с водой, четвертый положил кусок черного хлеба.
Завтрак окончен. Орава ушла. Мышкин сел на кровать, окинул взором все окружающее. Сумрак. Перед окном возвышается стена. В камере сыро, на стенах пятна.
Тихой чередой потекли мысли. В этой камере или в камере рядом, такой же мрачной и грязной, сидел Чернышевский! За таким же столиком писал он свой роман «Что делать?». Он не видел пятен на стенах.
«Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес…»
Вот что видел Чернышевский в этой грязной камере!
Шаги и звякание шпор в коридоре. Мышкин понял: водят на прогулку — то легкая женская поступь, то твердые мужские шаги.
Народу немного: ведь во всем равелине всего 14 камер, но сколько людей тут перебывало? Сколько глаз поднималось к этому запыленному своду? Сколько взоров блуждало по этим угрюмым стенам? Сколько было в этих камерах продумано, выстрадано? Сколько здесь загублено молодых сил, сколько жизней разбито?
На прогулку Мышкина не взяли.
Наступило время обеда. В двери раскрылась форточка. Дали миску щей и немного гречневой каши-размазни.
Когда затихло в коридоре, Мышкин лег на кровать и ногой постучал соседу справа:
3—2, 6–1, 5–4, 2–5, 2–4, 3–3.
Это означало: Мышкин.
Раздался в ответ тихий, едва уловимый стук:
2—5, 3–4, 3–1, 3–4, 1–5, 2–5, 2–1, 1–3, 2–4, 5–3.
«Колодкевич», — обрадовался Мышкин.
Одиночество отступило: рядом друг, товарищ по борьбе. Они проговорили до ужина, до того часа, когда в коридоре начали грохотать солдатские шаги.
Перед сном Мышкин остановился возле другой стенки, стоял недвижимо, словно задумавшись, а ногой тихо выстукивал:
— Я — Мышкин.
— Я — Арончик, — ответила ему стена.
Тоже народоволец!
— Жить можно! — проговорил Мышкин, укладываясь спать.
Просыпается Ипполит Никитич, смотрит на пол и диву дается: весь он покрыт серебряным налетом.
Встал, потрогал — пленка легко снимается.
На другой день то же: за ночь образовалась такая плесень, что получился сплошной белесый ковер.
Сырость увеличивалась с наступлением дождливой погоды. Соль таяла, спички сырели, матрац прогнил…
В камере холодно. Сначала Мышкин отогревался беспрерывной ходьбой, но постепенно приходилось ему сокращать «прогулки»: уставал и на подошвах стала ощущаться боль.
«Надо чаще отдыхать», — решил Ипполит Никитич.
Новая беда! Посидит на стуле — ноги отекают. Лучше лежать. Лег, не помогает — под лодыжками появились опухоли.
Пошел пятый месяц. Ни прогулок, ни книг. Когда при утренней уборке отворялась дверь и через коридорное окно виднелось небо, облака, иногда птицы, свободно порхающие в синеве, — так манило, так тянуло на свежий воздух…
Наконец повели на первую прогулку.
— Ходить можно прямо, — указал Ирод на дорожку, имевшую вид траншеи, проложенной в снегу.
Было еще темно, и Мышкин спугнул ворону, примостившуюся на ночлег в густых ветвях липы. С глухим карканьем, тяжело хлопая широкими крыльями, взлетела потревоженная птица, стряхивая с ветвей хлопья снега.
Мышкин не питал особой любви к вороньему роду, но тут он почувствовал, что к его сердцу прихлынуло что-то теплое: не потому ли, что на вороне не было голубого жандармского мундира?
Проводив ворону завистливым взглядом, Мышкин стал оглядываться: снег, узкая дорожка, высокая стена.
Мышкин хотел пройтись, но и пяти шагов не осилил: голова кружилась, сделалось дурно, а ноги словно из ваты — подгибались.
— Набегался? — издевательски спросил Ирод.
Мышкин не ответил, вернулся в камеру и лег на койку.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он вздумал заняться гимнастикой: стал подбрасывать кверху ноги. Раз, два… и чуть не закричал от боли. Глянул под колено — чернота.
Болезнь с каждым днем все усиливалась. От лодыжек опухоль поднялась до колен. Ноги превратились в два обрубка; цвет их менялся от красного к серому. Боль в икрах была ужасна…
Но Мышкин заставлял себя ходить. Походит несколько минут и как сноп валится на койку. Сознания он не терял, однако впадал в сумеречное состояние: ему казалось, что не он страдает, а Фрузя, что она смотрит на него умоляющими глазами: «Ип, помоги…»
На соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и Мышкин открывает глаза. Он встает, но ходить не может…
Надо! Надо! Обойдет раз-другой вокруг койки, держась за нее…
И вот тогда, когда он, словно ребенок, неуверенно ходил вокруг койки, сосед справа простучал:
— Знаете, Ипполит, о чем я все утро думаю? О картине.
Превозмогая боль, Мышкин простучал ногой:
— О какой картине?
— В Москве, на выставке, я видел удивительную картину. Стрельцов ведут на казнь. Картина меня поразила. На ней ничего страшного не было: художник не показал, как вешают стрельцов, а показал только людей, которых собираются вешать.
Мышкин простучал:
— Предчувствие большой человеческой трагедии производит более сильное впечатление, чем показ самой трагедии. Подробнее поговорим ночью: я устал.
«Какой умный и… странный человек этот Колодкевич, — подумал Мышкин. — С утра до темна ходит он по камере, постукивая костылем, кашляет и думает, думает… Несколько ночей подряд урывками, таясь от унтеров, он рассказывал о себе, о пережитом… Тяжелая ему досталась доля…»
Ночью Колодкевич предложил:
— Давайте продолжим разговор о картине.
Но Мышкин не ответил: он был не в силах шевельнуть ногой.
Мышкин слабел день ото дня, ноги распухли, из язв сочилась вонючая бурая гадость. Несколько зубов вывалилось, остальные расшатались. Глаза болят, слезятся, словно в них дунули табачную пыль. Мышкин чувствовал, что он с каждым днем разрушается не только физически, но и духовно. Его ум, точно придавленный тяжестью, работает вяло, скоро утомляется.