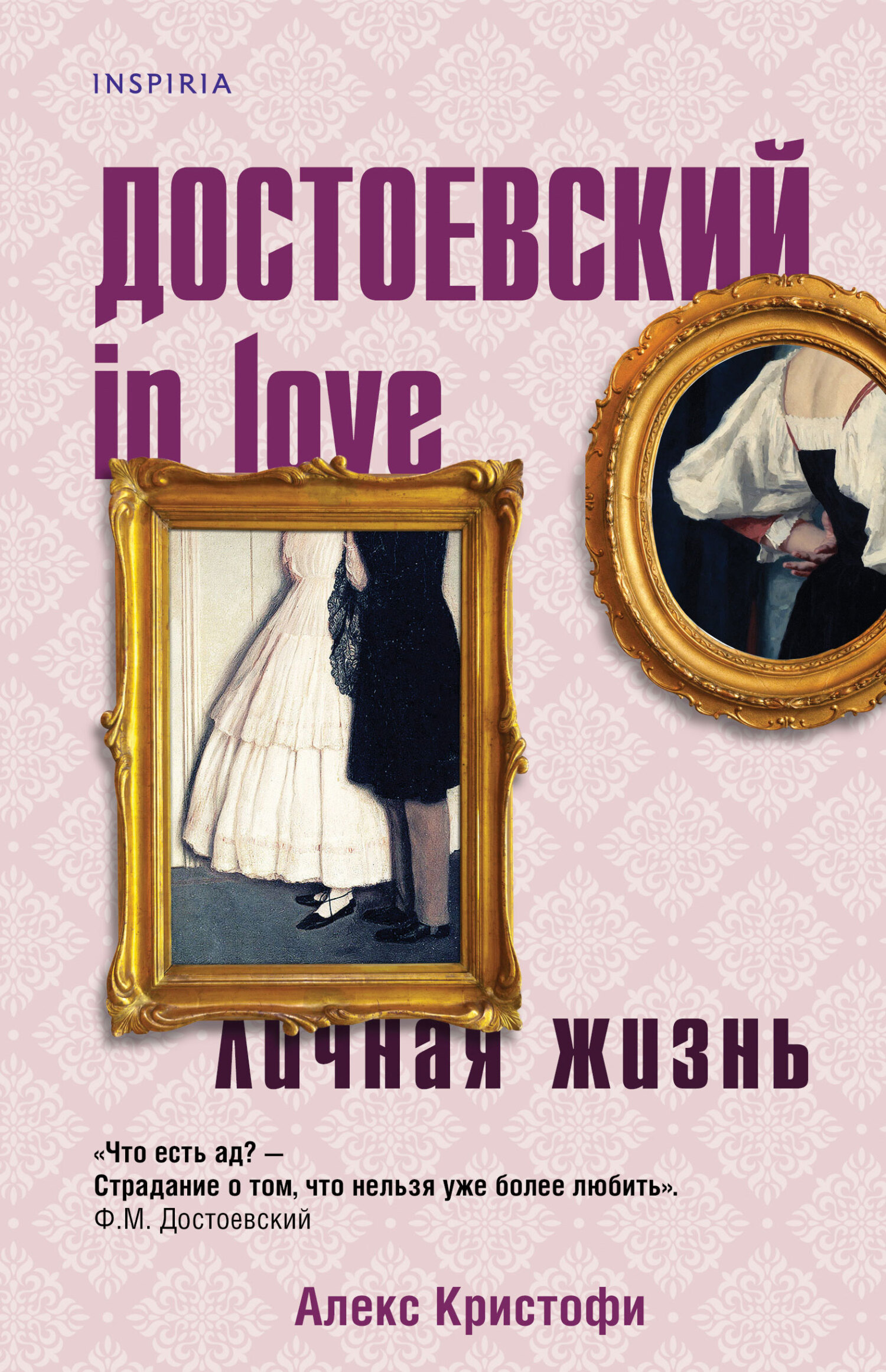работу. Роман, который он задумал и бросил давным-давно, начал возвращаться к нему, и ему инстинктивно казалось, что единственным способом вернуться на землю и начать писать было посетить старое семейное поместье, где умер отец, вернуться в прошлое по своим же следам. Тогда он сможет рассказать свою последнюю большую историю.
Проклятая поездка в Даровую! Как бы я желал не ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чем писать писателю! [500] Так он поехал в Москву и на громыхающем поезде со скоростью 15 верст в час потащился за город.
По прибытии в Даровое Федор был поражен, узнав, что Аграфена Лаврентьева, деревенская дурочка, все еще жива и близится к семидесяти. Он помнил ее молодой женщиной. Не способная к речи, она бродила по полям круглый год – кроме самых холодных ночей, когда деревенские заталкивали ее в избу. Даже зимой ее часто можно было найти босой на кладбище, где был похоронен ее единственный ребенок – с инеем на седых волосах, бормочущей что-то себе под нос [501]. Многие крестьяне помнили его и приглашали к чаю – маленький помощник Федя, который однажды пробежал две версты до дома, чтобы принести стакан воды крестьянской матери, работавшей в полях, собиравший дрова, когда кто-то из крестьян поранился. И хотя он провел там всего несколько дней, прежде чем вернуться в Санкт-Петербург, он пробудил множество воспоминаний, которые записывал, сидя на пне.
28 декабря 1877 года Федор узнал о смерти Некрасова. Он видел его всего месяцем ранее. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами [502]. На панихиде Достоевский увидел иссушенное страданиями тело. По возвращении домой не мог заставить себя работать; вместо этого снял с полки все три тома стихов Некрасова и принялся читать с первой строчки. Первые четыре стихотворения появились когда-то на соседних с первой публикацией Федора страницах. По мере чтения (а я читал подряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Он читал всю ночь, том за томом, вспоминая, как в молодости они разговаривали белые ночи напролет. Из глубины поднялось воспоминание: Некрасов открылся ему, поведал о жестокости отца, о том, как тайком по возможности обнимал мать. Некрасов был одним из немногих, кто, как Федор, понимал, что жестокость передается по наследству, и отказался от этого наследства. Горнилом, переплавившим неукротимость гнева в любовь, стала поэзия.
На похоронах было несколько тысяч людей, многие из них – студенты. Подходить к гробу начали в 9 утра, и когда к 4 пополудни стемнело, люди все еще шли. Шагая с Анной по кладбищу, Федор сказал:
– Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где захочешь, но запомни: не хорони меня на Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами; довольно я натерпелся от них при жизни! [503]
Анна пообещала ему грандиозные похороны, процессию из десятков тысяч, захоронение в Александро-Невской лавре и отпевание архиереем – но только если он пообещает жить еще много лет.
Федор улыбнулся.
– Хорошо, хорошо, постараюсь пожить подольше!
У могилы Федор сказал о Некрасове несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье [504]. В приступе щедрости он заговорил о величии Некрасова как поэта – что уступал он только Пушкину и Лермонтову. Голос из толпы закричал, что Некрасов был лучше обоих. Что ж, это было подле гроба, и Федор не стал спорить.
Его современники умирали, а Федор не был крепок здоровьем. Он предсказывал, что здоровье покинет его, едва переступив порог двадцатилетия. Теперь его терзали геморрой и эпилепсия, голос сел, легкие поедала эмфизема. Других людей, здоровее его, ломали тяготы Сибири. Но несмотря на все труды, что он написал по возвращении, он так и не приступил к своему magnum opus, книге, которая где-то на задворках разума обретала форму с конца 1860-х. Этот роман заполнил его голову и сердце, просит выразиться [505].
Приступить к нему означало на время отложить «Дневник писателя». Проживет ли он достаточно, чтобы написать действительно великую книгу в собственном ритме, книгу, которая, без сомнений, позволит ему занять место в пантеоне русских писателей? Иногда ему казалось, что смерть шла за ним по пятам сквозь туманные улицы, но иногда, напротив, чудилось, что все только начинается. В самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается истинная жизнь [506].
Глава 12
Пророк
1878–1881
Величайшей радостью Федора было проводить время с младшими членами семьи. Через детей душа лечится… [507] Он призывал их, пока пил свой утренний кофе, и с упоением вслушивался в их болтовню. Ужинала семья всегда вместе. Иногда дети стучались в дверь отцовского кабинета, пока Федор работал, и он предлагал им сладости. Однажды отец нарядился белым медведем, а дети сидели на табуретах, представляя, что это плавучие льдины. Федор ползал по полу на четвереньках, выслеживая «вкусных» детей, которые радостно взвизгивали, когда он бросался обнимать их. Если у него и был любимец, то Алеша, младший. Он был счастливым ребенком, всегда что-то лепетал, и Федор чувствовал уверенность, что Алеша особенный, возможно, как и его отец.
Весна 1878-го началась с радостной новости: Федора пригласили на Международный литературный конгресс – и никто иной, как Виктор Гюго. Но посетить конгресс он не смог. 30 апреля у Алеши случился припадок. Малыш бился в конвульсиях, но не плакал, и припадок длился всего четыре минуты. Федора охватило предчувствие беды. Неужели мальчик унаследовал его эпилепсию? Две недели спустя, 16 мая, Алеша смеялся с няней, как вдруг его лицо судорожно дернулось. Сперва няня решила, что это прорезываются коренные зубы, но вскоре мальчик уже бился в конвульсиях. Федор, всю жизнь страдавший от приступов, впервые увидел это со стороны. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы всё человеческое, и никак невозможно, по крайней мере очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот