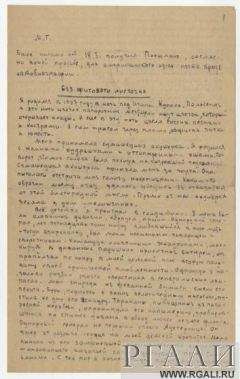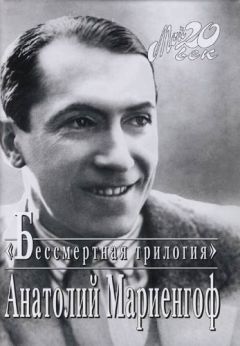Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:
– Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы же знаем мать его и отца. Как же он говорит, что сошел с небес?!
А четыре родных брата «сошедшего с небес»: Иаков, Иосиф, Иуда и Самсон – тут же мозолили глаза.
Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, опять же по словам евангелиста, очень удивлялись: как, мол, такое можно слушать?!
Значит, хочешь не хочешь, а надо признать, что мы со своим «я, видите ли, поэт гениальный» не очень-то были оригинальны и храбры.
Если маленькое «Стойло Пегаса» не вмещало толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вскакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и, подняв высоко над головой ладонь (жест эпохи), заявлял:
– Товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются; милости прошу: двери нашего театра для вас открыты – сцена и зрительный зал свободны. Прошу по жаловать!
Жаждущие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить партер, ложи и ярусы.
Если очередной диспут был платным, сплошь и рядом эскадрон конной милиции опоясывал общественное здание. Товарищи с увесистыми наганами становились на места билетерш, смытых разбушевавшимися человеческими волнами.
О таких буйных диспутах, к примеру, как «Разгром "Левого фронта"», вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внукам.
В Колонный зал на «Разгром» Всеволод Мейерхольд, назвавший себя «мастером», привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок.
Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячей и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши с самыми высокими званьями.
К Колонному залу мейерхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейерхольдом шел «знаменосец» – вихрастый художник богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развевающиеся в воздухе.
У всей этой армии «Левого фронта» никаких билетов, разумеется, не было. Колонный был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны зазмеились под хрустальной люстрой.
– Держись, Толя, начинается, – сказал Шершеневич.
В ту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завыли сирены, задребезжали свистки.
Мне пришлось с равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны.
Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи.
Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев лорнировал переполненные хоры и партер.
Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие, модное накануне революции:
Я выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной – всегдашняя бонна —
Моя будущая известность.
Докурив папиросу, Шершеневич кисло сказал:
– «Разгром» не состоялся.
Нашего блестящего Цицерона это слегка огорчило. Надо было утешить его.
– Не горюй, Дима. Мы сразу объявим второй диспут. В Большом зале консерватории.
– Правильно. Другого выхода нет.
На этот раз на афишах стояло: «Мы – ЕГО!» (то есть Мейерхольда).
Мелкой рысцой на доисторическом извозчике подъехал мастер к зданию на Никитской. Рядом с ним гордо сидела Зинаида Райх. Брошенная Есениным, она стала женой вождя «Левого фронта», который в спешном порядке делал из этой скромной совслужащей знаменитую актрису.
– А где же свистуны? – удивленно спросил я у нашего администратора. – Где левая армия под красными штанами?
– Сегодня у него в театре идет спектакль. Занята почти вся труппа, – со счастливым видом отвечал степенный администратор. – Нам повезло, Анатолий Борисович.
– Великолепно!
Бедный Мейерхольд левой рукой прикрывал от ветра перевязанную щеку, а правой отстегивал облезлую полость.
– У Всеволода Эмильевича флюс. Очень болят зубы, – грустно сообщил мне угодливо-вертлявый рецензентик из мейерхольдовского лагеря.
– Вот так камуфлет! Ну как же его драконить? Такого несчастного с флюсом?
Шершеневич, как Анатэма в МХАТе, вскинул правую бровь:
– Очередной балаган, Толя. Головой ручаюсь, никакого флюса у него нет. А вот актер он все-таки замечательный!
Администратор кивнул:
– На жалость берет. Не столько вас, друзья мои, сколько публику. Расчет тонкий, психологический.
Купив билеты у перекупщика, Мейерхольд расслабленной походкой больного старика вошел в зал, тяжело опираясь на руку Зинаиды Райх.
– А ну-ка, Боря, – сказал я своему приятелю Глубоковскому, – сорви ненароком черную тряпицу с его физиономии.
– Есть!
И через несколько минут он уже победоносно ею помахивал.
Само собой, никакого флюса у Мейерхольда и в помине не было.
– Можно начинать? – осведомился степенный администратор. – Всеволоду Эмильевичу «фокус не удалей».
– Начинайте.
Заложив руки за спину, администратор вышел на сцену и с профессорской важностью произнес:
– Слово принадлежит Анатолию Мариенгофу, члену ЦК Имажинистского ордена: «Мейерхольд – опиум для на рода».
На одном из театральных диспутов Маяковский сказал с трибуны, обтянутой красным коленкором:
– У нас шипят о Зинаиде Райх: она, мол, жена Мейерхольда и потому играет у него главные роли. Это не тот разговор. Райх не потому играет главные роли, что она жена Мейерхольда, а Мейерхольд женился на ней потому, что она хорошая актриса.
Отчаянная чепуха!
Райх актрисой не была – ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое – советские канцелярии. В Петрограде – канцелярия, в Москве – канцелярия, у себя на родине в Орле – военная канцелярия. И опять – московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.
И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых.
Зима. Большую Никитскую, словно кровать, застелил снег. Застелил будто простыней, отлично выстиранной. Тротуары, как накрахмаленные, похрустывали под ногами.
Из окна нашей книжной лавки Есенин с лирической грустцой поглядывал на улицу.