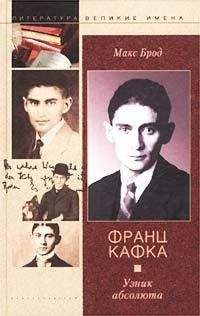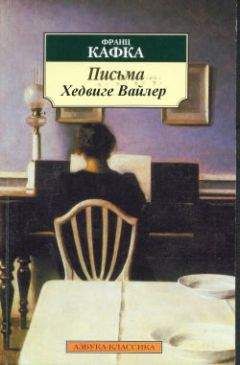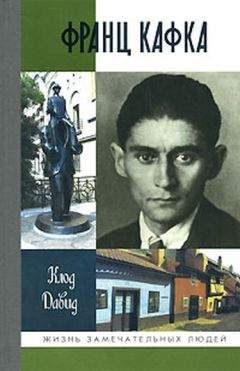Профессор Нейман и университетский преподаватель д-р Оскар Бек прибыли из больницы в Кирлинг. Приведу несколько строк из письма, написанного 3 мая д-ром Феликсом Вельтшем: «Вчера меня позвала в Кирлинг фрейлейн Димант. У д-ра Кафки были очень резкие боли в гортани, особенно при кашле.
Когда он пытается принимать пищу, боль усиливается до такой степени, что глотать становится почти невыносимо. Могу констатировать, что туберкулез производит разрушающее действие, которое затронуло также часть надгортанного хряща. В этом случае операция немыслима, и я сделал пациенту инъекции. Сегодня мне позвонила фрейлейн Димант и сказала, что лечение помогло лишь на время и что боли вернулись с прежней силой. Я посоветовал фр. Димант увезти д-ра Кафку в Прагу, поскольку профессор Нейман считает, что он проживет около трех месяцев. Фр. Димант отвергла этот совет, она полагает, что пациент, таким образом, догадается о степени тяжести своей болезни».
«Ваш долг – осознать всю серьезность ситуации. Психологически я могу понять, что фр. Димант, самоотверженно преданная пациенту, считает своим долгом созвать как можно больше специалистов в Кирлинг для консультации. Поэтому я разъяснил ей, что д-р Кафка в таком тяжелом состоянии, в котором ему не сможет помочь ни один специалист, и единственное, что можно сделать для него, – это облегчить боль морфием или пантопоном».
Последние несколько недель Францу было рекомендовано как можно меньше говорить. Поэтому он использовал для общения листы бумаги, на которых писал то, что хотел бы сказать. Мне досталось несколько таких записок. В одной из них он пишет: «Новелла выходит под новым заглавием «Певица Жозефина, или Мышиный народ». Заголовок, по правде говоря, не слишком приятный, но в данном случае он имеет особое значение». Франц много думал о своем отце. Как-то он рассказал Доре: «Когда я был маленьким мальчиком и еще не умел плавать, то ходил с отцом, который тоже не умел плавать, в купальни для не умеющих плавать. После купания мы сидели голые в буфете. Перед нами лежала колбаса и стояло по полпинты пива. Обычно отец брал с собой колбасу из дома, поскольку в буфете она стоила слишком дорого. Вообрази себе громадного человека, как мой отец, как он раздевается в маленькой темной кабинке, как он затем вытаскивает меня, дрожащего и пристыженного, оттуда, как пытается научить меня тем способам плавания, которые он предположительно знает, и все остальное. А потом пиво!» Несмотря на то что Кафка был трезвенником и вегетарианцем, он умел оценить пиво, вино и мясо, вдыхал запах горячительных напитков и мог оценить их пьянящий аромат – нельзя было понять, делал ли он это искренне или иронически. Ближе к концу жизни он снова стал пить пиво и вино и был от этого в восторге. В следующем описании можно увидеть насыщенность Франца жизненными силами. «Мой кузен был восхитительным человеком. Когда этот кузен Роберт, которому было уже около сорока, приходил около пяти часов вечера в бассейн на остров Софии, – он не мог прийти раньше, поскольку был адвокатом и у него было много дел, – быстро сбрасывал одежду, прыгал в воду и греб сильными движениями, словно красивый дикий зверь, со сверкающими глазами, устремлялся по направлению к плотине – это было восхитительно! А полгода спустя он умер, доведенный до смерти докторами. От их инъекций у меня возникает сплин». Кафка много пишет об условиях, в которых он находился, о том, что ему было нужно, о пилюлях, перевязках. Он просил «высокую шляпу, как эта». Он говорил такие слова, как «сыновья царей», «в самую глубину, в глубинных убежищах». Он устал, выражал нетерпение. А потом снова: «У Макса 27 мая день рождения», «Часто предлагаю вино», «Как прекрасно дать людям глоток вина, потому что каждый человек считает себя немного знатоком в этом деле», «Какое удовольствие подарить человеку то, что доставит ему радость, и увидеть его лицо в этот момент», «Все должны заботиться о невысоких цветах, которых множество в округе. Зачем люди срывают их и ставят в вазы? Возможно, потому, что вазы так хороши?» В воскресенье 11 мая я приехал из Вены снова повидать Франца. «Этой поездке предшествовала любопытная сцена. Когда я пришел в субботу утром в мою издательскую контору, мне тут же закричали: «Телефонный звонок! Безотлагательно! Вам звонит женщина из Вены!» Не снимая пальто, я бросился в телефонную будку. Это была Дора, которая приветствовала меня словами: «Ты мне звонил?» Я: «Нет, я только что пришел». Дора: «Звонили из Праги, из «Прагер тагблатт», поэтому я позвонила тебе». Несмотря на все мои усилия прояснить ситуацию, дело осталось невыясненным, потому что в действительности из газеты «Прагер тагблатт» часто звонили в Вену, и никогда – в Кирлинг. В дальнейшем выяснилось, что ни одна из сестер Кафки не звонила в тот день в Кирлинг.
Что было поразительно во время моей последовавшей за этим разговором поездки, так это то, что рядом словно витал дух смерти. Когда я выходил из дома, мне сказали, что молодой человек в квартире под нами лежал на смертном одре. В поезде со мной заговорила одетая в черное женщина, которую я сразу не узнал. Она была вдовой министра Тусара и сказала мне о смерти мужа и о своем несчастье. В Вене я ни с кем не разговаривал ни по дороге от станции к отелю, ни по пути от отеля к станции. Рано утром я сел на первый поезд, отправившийся в Клостернейбург, чтобы там пересесть на поезд, который шел в Кирлинг. Я пробыл там до вечера, потом вернулся в Вену и на следующее утро уехал в Прагу. До полудня Франц выглядел свежим. Несмотря на все свидетельства врачей, его положение не показалось мне безнадежным. Мы говорили о нашей следующей встрече. Я планировал путешествие в Италию, отправиться в которое мы собирались из Вены.
Первое, что рассказала мне Дора, – это то, как Франц, желавший на ней жениться, послал ее набожному отцу письмо, в котором объяснял, что хотя, с точки зрения отца Доры, он не является достойным евреем, он все же надеется, что тот примет его в семью. Отец Доры отправился с этим письмом спросить совета у самого почтенного человека, чей авторитет значил для него больше, чем все другие, – у рабби Герера. Рабби прочитал письмо, отложил его в сторону и ничего не сказал, кроме единственного слова «нет». Без дальнейших объяснений. Он никогда не давал объяснений. Таинственное «нет», произнесенное рабби, было оправдано вскоре наступившей смертью Франца. Отец Доры, который был у Франца как раз передо мной, вернул ему письмо. Тот очень расстроился, считал отказ дурным предзнаменованием, но улыбался. Он делал усилия, чтобы думать о другом. Затем Дора отвела меня в сторону и прошептала, что этой ночью перед окном Франца появлялась сова. Птица смерти.