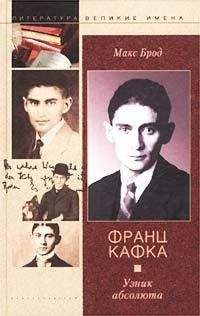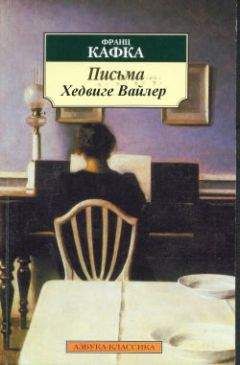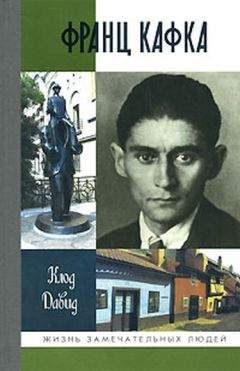Но Франц хотел жить. Он в точности, без всяких возражений, следовал указаниям врачей, чего я ранее у него не замечал. Если бы он раньше познакомился с Дорой, у него раньше бы возросло желание жить, и это было бы вовремя. Так мне кажется. Франц восхищался тем, как прекрасно Дора знала польско-еврейские религиозные традиции. В то же время молодая девушка, которая многого не знала о достижениях западной культуры, любила и почитала своего учителя. Она соглашалась с его мечтами и фантазиями и любила превращать их в игру. Они шалили вместе, как дети. Например, я помню, как они оба окунали руки в один и тот же таз и называли это «семейным купанием». Дора трогательно заботилась о больном. Впечатляло также последнее пробуждение его жизненных сил. Дора сказала мне, как радовался Франц, когда профессор Чассны на последней стадии болезни сказал ему, что у него наблюдаются небольшие улучшения в гортани. Он снова и снова обнимал Дору и говорил, что никогда не хотел так жить, как в тот момент. В те дни его душевное состояние было противоположным тому, каким оно было во время нашего совместного путешествия в Шелезен в ноябре 1919 г. Я помню два фрагмента из этого путешествия. Кафка говорил о «Соках земли» (Growth of the Soil) Гамсуна и объяснял, что в этом романе, подчас вопреки желанию автора, зло идет от женщин. Позднее, когда поезд где-то остановился, он произнес тоном глубочайшего отчаяния: «Как много станций по дороге к смерти, как медленно все движется!» Теперь, in articulo mortis[30], он почувствовал вкус жизни и захотел жить.
Франц Кафка умер 3 июня, во вторник. Тело было увезено в Прагу в опечатанном гробу и 11 июня в четыре часа было опущено в могилу на тщательно выбранном месте на пражском еврейском кладбище – Стрешницком, недалеко от главного входа. Вернувшись в погруженный в траур дом на Старой площади, мы увидели, что большие часы остановились на четырех. Позже родители Франца были захоронены в ту же могилу.
Я смог узнать подробности о последних часах Франца по рассказам д-ра Клопштока.
В понедельник утром Франц очень хорошо себя чувствовал. Он был весел, радовался, что Клопшток вернулся из города, ел клубнику и вишню и наслаждался ароматом ягод. Последние дни он жил словно с двойной интенсивностью. Он хотел, чтобы те, кто был рядом с ним, пили большими глотками воду и пиво, поскольку сам он не мог этого делать. Он радовался удовольствию других. В последние дни он много говорил о напитках и фруктах.
В понедельник он, кроме того, написал родителям последнее письмо. Этот документ свидетельствует о его самоконтроле и о сыновней любви к родителям. Это письмо можно сравнить с письмами Гейне к матери, которые он писал, будучи тяжелобольным, и где не выказывал тревоги, чтобы не обеспокоить ее. Привожу письмо:
«Дорогие родители!
Я каждый день думаю о том, как бы вы приехали навестить меня. Это было бы так прекрасно, ведь мы не были вместе столько времени. Я не рассчитываю побыть вместе в Праге, это только нарушит ваш домашний распорядок, но как замечательно было бы очутиться вместе где-нибудь в прекрасном уголке (я только не знаю, когда реально это может произойти), например провести несколько часов во Франценбаде. И выпить вместе «добрый стакан пива», как вы и писали, из чего я мог заключить, что отец и не думает о молодом вине. Поэтому, что касается пива, я разделяю его мысли. В эту жару я часто вспоминаю о том, как много лет назад мы с отцом пили пиво, когда он брал меня с собой в общественные купальни.
Это и многое другое говорит за ваш приезд, но существует еще множество препятствий. Во-первых, отец не может приехать из-за трудностей с его паспортом. Поэтому поездка во многом будет лишена смысла. Что касается матери, то, если она приедет одна, кто будет ее сопровождать? Все будет возложено на меня, зависеть от меня, а я не в таком состоянии, чтобы должным образом уделять ей внимание.
О трудностях, с которыми я столкнулся в Вене, вы знаете. Они немного расстроили меня, в результате температура долго не спадала, и я стал еще слабее. Состояние моей гортани оказало на меня шокирующее действие – поначалу я испугался больше, чем того заслуживало реальное положение дел.
Сейчас я впервые приступил к работе, несмотря на слабость. Мне помогают Дора и Роберт – что бы я без них делал! Но, несмотря на замечательных помощников, хороший свежий воздух и пищу, на ежедневные воздушные купания, я еще не вполне поправился и нахожусь даже не в таком состоянии, в каком был в последний раз в Праге. Нужно принять во внимание, что я могу говорить лишь шепотом, причем немного, и для вас даже будет лучше, если вы отложите свой визит. Но мне начинает становиться лучше. Недавно профессор нашел реальное улучшение у меня в гортани, и его слова служат для меня большим утешением. Доктор – исключительно добрый и бескорыстный человек, он приезжает сюда каждую неделю на своем личном автомобиле и почти ничего не берет за это, его слова приносят мне великое утешение – и дела, как я уже сказал, начинают идти лучше. Но для начала необходимо, чтобы ко мне не приезжали гости – и особенно такие гости, как вы. Ваш приезд будет великим неоспоримым прогрессом, различимым даже невооруженным глазом, но лучше его отложить. Поэтому давайте отложим его ненадолго, дорогие отец и мать!
Вам не стоит думать о том, чтобы улучшить лечение, которое я здесь получаю. По правде говоря, владелец санатория – старый и больной человек, и он не может очень много заботиться о делах. Помимо здешних специалистов рядом со мной постоянно находится Роберт, который не отходит от меня, и вместо того, чтобы думать о своих исследованиях, он думает обо мне. Кроме того, здесь есть молодой доктор, которому я очень доверяю. Ко мне три раза в неделю приезжает также д-р Эрманн, но не на автомобиле, а на поезде, а затем на «автобусе».
В понедельник (и, очевидно, во вторник утром) Франц работал над корректурой своей последней книги «Голодарь». Он давал указания изменить порядок расположения рассказов и был разгневан на издателя за то, что тот не последовал тем или иным указаниям. Однажды Дора очень точно сказала: «Он требовал уважения к себе. Если кто-либо относился к нему с должным уважением, все было нормально и он не придавал значения формальностям. Но если уважения не было, он очень раздражался». Среди ночи ему захотелось спать. В четыре утра Клопшток позвал Дору в комнату, поскольку Франц стал хуже дышать. Клопшток почувствовал опасность и позвал доктора, который сделал Кафке инъекцию камфары.
Затем началась борьба за морфий. Франц сказал Клопштоку: «Вы четыре года обещали мне его. Вы меня мучаете. Вы всегда меня мучили. Я так и умру». Ему сделали две инъекции. После второй он сказал: «Не обманывайте меня, вы даете мне противоядие». Потом он произнес слова, о которых я уже упоминал ранее: «Убейте меня, или вы будете убийцей». Ему дали пантопон, чему он обрадовался. «Это хорошо, но надо больше, больше, это мне не поможет». Потом он стал медленно засыпать. Его последние слова относились к его сестре Элли. Клопшток держал его за руку. Кафка, всегда ужасно боявшийся заразить кого-либо, произнес, вообразив, что он видит вместо Клопштока сестру: «Отойди, Элли, не так далеко, не так далеко» – и, когда Клопшток немного отодвинулся, сказал: «Да, вот так – так хорошо».