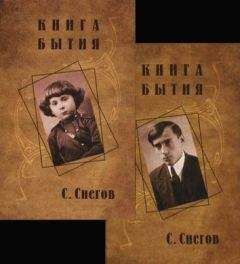Я перебрал тысячи способов. Прежде всего нужно было уяснить, что это вообще за штука — умножение. И я совершил великий интеллектуальный подвиг — установил, что в основе умножения лежит прибавление: чем больше прибавляется чего-то, тем сильней умножится это что-то.
Но прибавление не что иное, как сложение! Итак, умножение сводится к многократному сложению. Совершив это замечательное открытие, я выписал тринадцать раз — одно под другим — число 13 и получил великолепный итог: 169. Аккуратный столбик цифр смотрелся башней, он доказательно устанавливал мои незаурядные возможности.
Я пришел в восторг. Восторг обычно выплескивался схваткой с Жеффиком. Я кликнул его на борьбу — он мигом отозвался. Мы рычали, катались по полу, кусались (то я его, то он меня) и по очереди побеждали. Устав, я подмел комнату — схватка подняла много пыли, а мама не терпела, если мы с Жеффиком разводили грязи больше, чем ей воображалось нормальным.
Вечером разразился скандал. Отчим обманул мои ожидания. Мои математические открытия вызвали у него не одобрение, а негодование. Он кричал на маму, что своим попустительством моему безделью она растит невежду и дурака, что больше этого терпеть нельзя, что надо срочно выволакивать скверного уличного мальчишку, ее сына, из трясины дремучей безграмотности. В первый и последний раз в их долгой совместной жизни он орал на нее, стучал кулаком по столу. Жеффик забился под кровать и весь вечер не вылезал оттуда. Я боялся поднять голову. Я понимал: вина моя неизбывна. Мне, видимо, осталась одна дорога — в беспризорники, а потом — в воры. Иного выхода я не видел.
Мама разбилась в лепешку: у меня появилась учительница, девушка из нашего же дома, хромушка (одна нога короче другой) Любовь Васильевна, маленькая, веселая и такая красивая, что проходящие мимо мужчины оглядывались, когда она сидела у ворот, лузгая семечки. Если она шла (тем более — бежала) очарование пропадало — такой сильной была хромота. Мама горестно говорила отчиму:
— Вот же не повезло Любушке! При таком личике она бы любого жениха себе выбрала — да нога не позволяет. И почему люди такими рождаются?
Любовь Васильевна учила меня весело и нестрого: сперва втолковывала урок, потом проверяла домашние задания. В тетрадках умножались арифметические задачи, склонения и спряжения. Учение шло плохо. Я с трудом понимал ее объяснения — она удивлялась моей тупости.
— Боже мой, Сережа, какой ты глупый! — говорила она ласково. — Даже не думала, что мальчишки бывают такими неспособными. И у тебя совсем нет памяти. Я говорю, а ты ничего не запоминаешь. Это очень нехорошо! Вот слушай, я опять объясню.
И она объясняла снова и снова — я снова и снова не запоминал. Слова доходили до меня словно в тумане, они расплывались в голове, четкие фразы превращались в месиво. Еще хуже было с домашними заданиями. Я заранее понимал, что ничего хорошего не выйдет. И не выходило: мрачное сознание собственной тупости костенило мозг, тормозило робкое желание постичь непостигаемое — вроде спряжений глаголов и различий между причастиями и деепричастиями.
Каждый месяц, получая свои пять рублей, Любовь Васильевна уверяла маму и отчима, что ей неловко брать деньги: она их не заслужила. Ничего путного все равно не получится — Сережу не обучить даже примитивной грамоте.
— Его бы врачам показать, — советовала она. — Мальчик вроде красивый и резвый (я видела, как он по улице гоняет). И с товарищами нормально говорит, даже книги читает. А на уроке молчит, смотрит в окно, двух толковых словечек не свяжет. Может, его в головку ушибли? Я бы на вашем месте проверила, Зинаида Сергеевна.
Эти ежезарплатные (если можно так сказать) вечерние монологи душили меня, как черные жабы. Я со страхом ожидал очередного вручения денег. После первого разоблачения мама взялась было меня бить — вмешался отчим. Взбучка Сереже, конечно, нужна, но ведь и опасность есть: что, если загвоздка и впрямь в ударе по голове? Не усилит ли ушиб новая кара? Не перейдет ли неспособность в прямой идиотизм? Неудачный удар может вышибить из мозгов последнее понимание…
— Памороков у этого сорванца не отшибить! — возмущалась мать. — Разговаривать часами о книгах — это он может, а запомнить несколько строчек — способности нет? Притворщик он, вот что скажу тебе, Осип! Только битьем таких исправлять. Страницу в учебнике ему не выучить! А сто страниц при луне за час глотает — это, по-твоему, что?
Здесь я должен сделать отступление.
По сравнению с Мясоедовской, на Южной мы жили богато: две комнаты окнами во двор на третьем этаже. В дальней поставили две кровати: большую «варшавскую», металлическую, с никелированными шишечками — на ней спали отчим и мама; и маленькую, детскую, со стенками (они защищали от падения на пол) — мою. Я дрых в ней и уличным босяком, и школьником, и студентом… Потом, когда угнездиться в этом лежбище можно было только до колен, к нему приставили стул — для ног. Когда ко мне приходили гости, я всегда закрывал двери в спальню — не хотел, чтобы видели, где я сплю. Стыдно было. В большой комнате устроили гостиную. В ней царили мощный комод, внушительный шкаф, стол с керосиновой лампой под белым абажуром и четыре венских стула. Здесь ели, пили чай, здесь я готовил уроки и устраивал драки с Жеффиком. На стене висели отцовские поделки — копия (маслом) шишкинского леса и резной деревянный шкафчик, так тонко выпиленный, так аккуратно, щепочка к щепочке, склеенный, что казался кружевным. У него были золотые руки, у моего отца, только они хватались за нож с не меньшей охотой, чем за лобзик и кисть.
Гостиная (мама называла ее столовой — вероятно, в голодные годы это звучало надеждой) была налево от входа. Прямой коридор вел в кухоньку с одним окном и плитой — она почти не давала огня, зато с удовольствием производила дым, быстро заполнявший квартиру. За оконным пролетом открывался узкий, круглый, глазастый (по два окна на каждом этаже) колодец, внизу была домовая уборная.
На плите стоял медный примус — единственное техническое устройство, которое мама признавала. Впрочем, кухонька, выражаясь современным языком, была весьма продвинутой — с водопроводным краном и раковиной. Раковина действовала исправно (правда, любила засоряться), кран работал только по особым (вероятно, предназначенным для роскоши) дням — обычно я исправно таскал ведра со двора.
Так вот, в новой квартире Осип Соломонович ввел еженощные развлечения с явным педагогическим налетом. Когда мы укладывались спать (Жеффик вскакивал в мою люлечку и пристраивался в ногах), он спрашивал:
— Что ты сегодня читал, Сережа? Расскажи-ка нам с мамой.