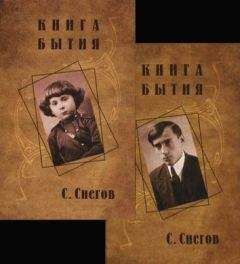Так вот, в новой квартире Осип Соломонович ввел еженощные развлечения с явным педагогическим налетом. Когда мы укладывались спать (Жеффик вскакивал в мою люлечку и пристраивался в ногах), он спрашивал:
— Что ты сегодня читал, Сережа? Расскажи-ка нам с мамой.
Мне это льстило. Каждый день я проглатывал новый выпуск, а то и целую книгу. Однажды я залпом осилил здоровенный том про сумасшедшего чудака из испанцев, вообразившего себя странствующим рыцарем. В книге был его портрет — худое лицо, не нос, а носище, усы как пики, а на голове медный таз вместо шлема. Чудила Дон-Кихот, так его звали, вляпывался в забавные приключения — нельзя было читать без смеха (и спустя десяток лет я вдруг начинал хохотать, вспоминая, как он дрался с деревянными мельницами, как его отдубасили бродяги, как его выворачивало наизнанку от собственного лекарства). У Дона был оруженосец — тоже штучка с ручкой, некий Санчо Панса, толстяк, то ли бесхитростный дурак, то ли тайный умник. Автор здорово поиздевался над этой парочкой (на каждой странице выдавал им выволочки и встряски), а потом вдруг пожалел. И какие-то они получились хорошие — такие хорошие, что уже невозможно было смеяться над их бедами и жутко злили те, кто подставлял им ножку.
Испанца и его слуги хватило на полный ночной рассказ. Одного выпуска обычно недоставало: Осип Соломонович сонным голосом приказывал: «Еще, Сережа» — и я заводил новую историю, пока оба, отчим и мама, не засыпали.
Вначале я окликал их — нужно было непременно довести до конца страшное дело об убийстве наследника престола или похищении знатной страдающей девушки (не бросать же ее в лапах кровожадных разбойников и вымогателей!). Мама сквозь сон шептала: «Мы слушаем, Сережа, говори, говори!» Вскоре я с удовольствием понял, что совсем не обязательно будить почтенную публику — можно просто притвориться, что она не спит. И я говорил, и меня преданно слушал Жеффик — этот не позволял себе вырубиться посреди захватывающего приключения. Иногда, впрочем, я лукавил — пропускал неударные эпизоды, сворачивал дело побыстрей — и все три моих слушателя ни разу не заметили обмана.
Так продолжалось почти два года: ежедневное пополнение историй и ежевечерний рассказ — не одна сотня книг! Но чем дальше, тем быстрей засыпали отчим с мамой — и я все больше обижался. Себя-то я не усыплял — наоборот, сон испарялся как дым. Я тихонько вставал, зажигал лампу в столовой и читал не дочитанное днем.
Но если мои рассказы маму убаюкивали, то свет, который подло просачивался сквозь щели, будил. Она выходила, гасила лампу — я протестовал, просил еще полчасика, получал шлепок — на том и заканчивалось. Я возвращался в кровать, молча негодуя на судьбу, не дающую хорошему человеку скромной радости — узнать, чем закончится схватка бандитов с сыщиками. Вскоре я приспособился: услышав ворчание встающей мамы, мигом перелистывал книгу, мигом проглатывал последнюю страницу — наутро можно было не читать, а смаковать приключения (финал-то уже известен!).
В первые годы на Южной я совершил великое открытие: если шрифт не очень мелкий, для чтения вполне хватает лунного света. Теперь я ждал ночи (особенно в полнолуние) с нетерпением, а не с досадой. На большой кровати засыпали — на маленькой начинались часы наслаждений.
Пока луна обходила мое окно слева направо, я читал и читал — без окриков и помех. Правда, комната смотрела на север — надолго луны не хватало. Но ведь и спать надо! Я был доволен и тем, что мне перепадало. Разика два меня ловили: увлеченный книгой, я не успевал ее убрать, когда мама просыпалась. Орудие преступления исчезало у нее под подушкой, а мне выдавались толчок или оплеуха.
Неудачные занятия с Любовью Васильевной полностью прикончили ночные рассказы: чего интересного можно ждать от здоровилы, неспособного осилить учебник для второго класса? И я обрадовался, когда моя учительница решила распрощаться со мной.
— Я честная девушка, Зинаида Сергеевна, — объяснила она, принимая очередную пятирублевку. — Обучать Сережу бесполезно, он школу не осилит. Вы бы похлопотали, чтобы его приняли учеником куда-нибудь в кузницу или слесарную мастерскую. Руки у него проворные, напильник ему подойдет.
Мама несколько вечеров совещалась с отчимом, совещания превращались в споры, отчим сердился, мать не уступала. В доме появилась новая учительница — Ольга Николаевна Соколова.
Худощавая, средних лет, она преподавала немецкий язык — но теперь в школах его не изучали. Германию разбили, на революцию у немцев не хватило смелости, в мире заправляли французы с англичанами — зачем тратить силы на язык страны, явно выходящей в тираж? Ольга Николаевна воспитывала сына, мужа не было — заработок исчерпывался пятирублевками за домашние уроки.
Новой моей учительнице все рассказали честно: ее ученик — дубина, лодырь и неслух. Чего-либо толкового от него не ждать, но подготовить в школу хотелось бы. Если она не справится — что ж, претензий никто не предъявит, против лома нет приема. Но, может быть, удастся хоть арифметику с географией пройти?
У Ольги Николаевны был свой метод обучения — она сразу взяла быка за рога.
— Сережа, я понимаю: вам трудно, — сказала она. Услышав это «вы», я покраснел от стыда. — Но я объясню, вы только внимательно слушайте. Потом выполните вот это и вот это задание. Уверена: все удастся.
Объяснения я, естественно, не понял — разволновался от неожиданного обращения. А не выполнить домашнего задания просто не мог: она верит, что я справлюсь — как же ее обмануть? Меня даже в жар бросило. Задание было сложнейшее: разделить пятизначное число на трехзначное, выписать все падежи десятка слов, выучить что-то из географии. Ольга Николаевна слушала меня с удивлением: арифметика была без ошибок, грамматика без описок, а географию я не рассказал, а оттарабанил.
— Очень неплохо, Сережа, — оказала она и поставила четверку.
Всего шесть лет оставалось до дня, когда я, самый молодой доцент в Одессе (и, вероятно, один из самых молодых в стране) поднимусь на кафедру, огляжу аудиторию третьекурсников (лишь один студент будет мне ровесником, остальные — на год, на два, на пять старше) и уверенно начну лекцию. И многие удивятся моей молодости, кое-кто возмутится, что сопляки полезли в науку, — но ни один не усомнится в эрудиции юного преподавателя. И на этом коротком пути от малограмотности до учености будет много хулы и хвалы, заслуженных и незаслуженных комплиментов и обвинений, я буду остро стыдиться неудач, меня будут глухо терзать упреки… Впрочем, восхищение стану принимать как должное, только иногда (для успокоения совести) краснея — и от явной незаслуженности, и от заведомого перебора. А мой друг, тоже юный доцент, Оскар Розенблюм с гордостью скажет: «Знаешь, Сергей, мы с тобой заслужили и незаслуженные похвалы». Но не будет во время этого бурного пути минуты, когда бы я радовался успеху так же, как той первой четверке. Ибо она снимала обвинение в тупости, была индульгенцией от греха неспособности, официальным пропуском в мир нормальных людей, способных понимать грамматику с арифметикой.