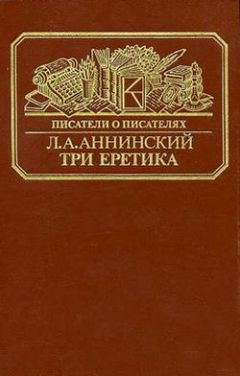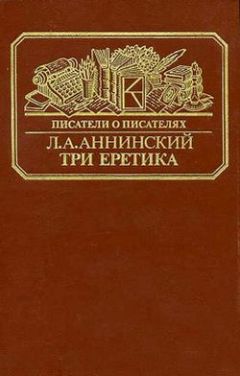— «Содержания» в романе слишком много, и все несется перед читателем с беспорядочностью калейдоскопа. Фигуры появляются и исчезают с необъяснимой легкостью. Автор является, наконец, даже сам, собственной персоною на сцену и под видом изложения личных своих ощущений принимается исподтишка связывать нити, завершая этим усилием ряд точно таких же ловких изворотов, с помощью которых он с самого начала старался собрать рассыпающееся действие…
(Замечательно точное наблюдение. Что еще любопытно: твердо ведя эстетический разбор, Анненков все время воздерживается от анализа задетых в романе общественных проблем. Но и эту сторону все–таки приходится осветить. Надо сказать, что Анненков делает это с достоинством.)
— Идея Писемского заключается в том, что переход нашего общества к новым воззрениям совершился слишком поспешно и неожиданно, отчего произошла анархия в умах. Писемский ошибается. Переход совершен так, как он только и мог совершиться: общество двигалось по тем законам, какие успело само для себя выработать. Писемский видит одну только игру в протест. Да, игра в протест была, ею занимались все от мала до велика; была настоящая погоня за самым резким словом, за самым оглушительным ударом по больному месту общественного организма или по всему строю жизни. Но Писемский подошел к этому вопросу не как художник и не как мыслитель, а как полемист: бойко и размашисто. С его стороны это тоже игра — игра, по окончании которой люди вряд ли держат в памяти ее случайные узоры. Иначе говоря: с последним своим словом роман весь и кончается в уме читателя…
(Жестко сказано. Тут уж не «памятник жанра, не превзойденный подражателями…» На фоне позднейшего примирения видно, на сколь многое решается Анненков в отношении Писемского в 1863 году.)
— Да, была игра в протест, но был же и подлинный протест, великий по своему значению, такой, каким эпоха спасла нравственную перспективу. Писемский этого не понимает. Никакого умышленного оскорбления мы тут не видим, но глухота и враждебность Писемского к азбуке современного политического мышления преступны…
Теперь оценим то, что называется давлением момента. На фоне восьмидесятых годов статья Анненкова есть акция отчаянной смелости, когда человек, переступая через личные отношения, говорит прямую и горькую правду. А на фоне шестидесятых годов? Это вовсе не горькая правда! Это уклончивая и сладкая ложь.
Валентин Корш, редактор «Санкт–Петербургских ведомостей», в примечании к статье Анненкова немедленно отмежевывается от автора:
— Мы совершенно согласны с почтенным критиком в художественной оценке романа г. Писемского, но позволим себе сказать несколько слов об общественной его позиции. Роман оставил у нас тяжелое впечатление: мы тщетно искали в нем сочувствия столь крупному явлению, как крестьянское дело, а нашли ужасного Иону–Циника, оставленного дворовыми, негодяя, которому посвящена трогательная сцена…
Интересно, вспоминает ли Корш, как год назад в Лондоне взял с Писемского слово, что тот передаст роман в «Санкт–Петербургские ведомости»?
Вряд ли. Не до того. Драка идет! Через шесть дней, 15 ноября, Анненкову уже отвечает в «Искре» майор Бурбонов (все тот же Дмитрий Минаев):
«Читал критику П.В.Анненкова на „Взбаламученное море“. Очень одобряет и поощряет (!! — Л.А.) романиста. Статья написана очень мудрено, так что многого я не уразумел. Что означает, например, нравственная перспектива? Убей Бог — не понимаю. Могу сказать одно в тоне г. Анненкова, что все его статьи — с нравственным гарниром.
Перед обедом прохаживался. Навстречу попалось девять генералов…»
Последняя строчка отнюдь не бессмысленна: цель ее — поместить Анненкова в контекст обывательского безмыслия, то есть туда, где, по мнению Дм. Минаева, ему и место. «Отставной майор Бурбонов» — это, конечно, ответ на «Никиту Безрылова». И на «статского советника Салатушку» тоже.
Да, тяжелые времена подходят для честных либералов: меж двух огней. Между молотом и наковальней. Или, придерживаясь морских сравнений, — между Сциллой и Харибдой.
Тем не менее «Отечественные записки» вдруг решаются принять бой. В двенадцатом номере, в редакционной «Литературной летописи» появляется, наконец, обстоятельный разбор «Взбаламученного моря». В двенадцатом! Под самый Новый год высказываются! Уже десять недель, как «Русское слово» отстрелялось, уже почти полгода, как «Современник» клеймо поставил, — а журнал Дудышкина еще никак не найдет позиции. И потом: в третий раз брать слово… это что же? Значит, в первой и во второй попытке ничего не сказали?
С третьего захода ведущий либеральный журнал наконец объясняется.
Схема такая: Басардин и прочие дикие нигилисты молодого поколения изображены Писемским правильно, а Бакланов, представитель «идеалистов сороковых годов», изображен неправильно. За идеалистов обидно, люди сороковых годов «были участниками лучших подвигов русской земли» (уж не сам ли Дудышкин пишет?). За нигилистов ему не обидно: люди шестидесятых годов таковы и есть, как их вывел Писемский. Правда, он вывел обыкновенных межеумков и наглецов молодого поколения, но если взять этот тип, так сказать, в идеале, то получится… благородный фанатик: Рахметов получится, из романа «Что делать?». Басардин есть прямое порождение той теории невежества, которую преподает нам Рахметов, с лета все схватывающий и сплеча обо всем судящий. Не случайно же г. Чернышевский относится к людям сороковых годов с тем же презрением, с каким и г. Писемский. Они подходят к делу с разных сторон, но тут сходятся…
Наверное, это все–таки С.Дудышкин: ход рискованный, острый, решиться на такое может только редактор.[13] И все–таки слабовата игра. Ибо сходятся «с разных сторон» не только авторы романов «Что делать?» и «Взбаламученное море» — сходятся парадоксальным образом и их критики. Именно — критик «Отечественных записок» сходится с критиком «Русского слова». Схема Дудышкина — это же схема Варфоломея Зайцева, только перевернутая. Тот говорил: про вас все правильно, а про нас клевета. Этот отвечает: нет, про вас все правильно, а про нас клевета. Отраженный прием — признак слабости… Да и интонация выдает. Зайцев говорил зло, убежденно, каким–то пронзительным, пронизывающим фальцетом. Дудышкин говорит с ухмылками, он петляет и ерничает. Я, мол, докажу вам сейчас, что Писемский — высоконравственный писатель, и пусть Академия наук дает мне премию за этот фокус… Хороши шуточки: критик «Отечественных записок» так защищает Писемского, словно сам себе не верит или знает, что ему никто не поверит.