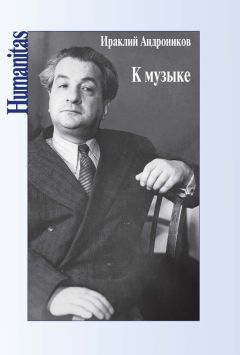Однажды на море поднялось сильное волнение. Я ходил взад и вперед по палубе, чувствуя сильную тошноту. Большинство пассажиров разошлось по своим каютам. В конце палубы я увидел семнадцатилетнюю девушку по имени Лизетта, танцовщицу из кордебалета. Ей было совсем плохо. Я подошел к ней и, когда она перегнулась через борт в сильном приступе рвоты, поддержал ее голову, положив ей ладонь на лоб. Бледная, похолодевшая, она, казалось, сейчас потеряет сознание. Я принес ей апельсин с сахаром и, когда она чуть-чуть пришла в себя, помог ей устроиться на скамье. Она, благодарная за помощь, которую я оказал ей во время ужасных страданий от морской болезни, обратилась ко мне с ласковыми словами и неожиданно опустила голову ко мне на плечо. «Извините меня, — сказала она, — за то, что я себе позволяю, но я больше не могу». Мне не оставалось ничего другого, как сидеть неподвижно, ожидая, когда ей станет немного лучше. В эту минуту под руку с доном Джоаном мимо нас прошла Миртеа. Увидев меня в такой позе, она бросила на меня убийственный, испепеляющий взгляд. Через некоторое время мне удалось проводить бедняжку Лизетту до ее каюты, и почти сразу же я узнал, что не меньше ее обречен страдать от морской болезни. То, что я тогда выстрадал, неописуемо. Дошел до того, что кричал и стонал, как человек в агонии. Клялся, что никогда больше не подпишу контракта за океан. Проклинал Христофора Колумба и его жуткое открытие. Провел неведомое количество времени на палубе пригвожденный к скамье. Когда мне показалось, что немыслимая качка — бортовая и килевая — немного успокоилась, я, наконец, встал и прошел несколько шагов, отчаянно хватаясь за все, что попадалось под руки, лишь бы не упасть. Внизу, в коридоре я слышал только жалобы, стоны, рыдания, хрип. Но, несмотря на мучительную тошноту и нервное раздражение, я нашел в себе силы доползти до своей каюты. И там, — кто бы мог этому поверить? — Вульман, вопреки светопреставлению, храпел со своей обычной громогласной безмятежностью и спал так, как будто мы плыли по идеально спокойному морю. Не могу сказать, до чего я ему позавидовал! Поспешно раздевшись, постарался заснуть. Увы! Сознание мое колебалось между потребностью заснуть и желанием умереть.
Через два дня Нептун, наконец надумал утихомирить водную стихию, и тогда постепенно, одни за другими, в большей или меньшей степени побледневшие и поблекшие, пассажиры стали вылезать из своих кают. Одной из наиболее пострадавших оказалась маленькая танцовщица, которой я помогал два дня назад: она еле держалась на ногах. Миртеа, опиравшаяся на руку дона Джоана, видом своим напоминала святую Терезу Бернини; она казалась призраком. Он же, после стольких путешествий привыкший ко всем причудам океана, выглядел превосходно. К обеду почти все заняли свои места за столами. Хотя дон Джоан с Миртеей и в этот день поедали обычные лакомства, однако воздержались от того, чтобы предложить их и мне. Миртеа даже ни разу на меня не взглянула. Я сделал вид, что не замечаю перемены. Она была явно на меня обижена, но я никак не мог понять почему. Дон Джоан, как бы одобряя поведение своей подруги, был по отношению ко мне не менее сдержан. Все сидевшие за столом отметили этот факт, так что я, чувствуя себя еще более стесненным, чем раньше, через два дня пересел к другому столу. Это поставило меня в еще худшее положение перед доном Джоаном. Он не преминул спросить меня, почему я это сделал. Я резко ответил, что вовсе не стремлюсь в рай, вопреки воле святых угодников; мне следовало сказать, вопреки воле святых «угодниц», но он и так отлично понял намек, и я тут же смог поблагодарить его за все оказанные мне любезности.
Наше путешествие длилось уже восемнадцать дней. Лизетта, молоденькая танцовщица, которой я помог во время страшной морской болезни, часто подходила ко мне. Иногда вечером она останавливалась рядом со мной и обращалась ко мне с несколькими словами, выражая свое восхищение безбрежным простором океана и любуясь волшебным зрелищем захода солнца. И я, в свою очередь, чтобы не прослыть медведем — тем более, что она была очень мила — стал с ней понемногу любезнее. Мы подружились как добрые товарищи— оказавшиеся, кстати, самыми молодыми из всех пассажиров — и подолгу беседовали о всяких невинных пустяках. Эти бесхитростные отношения были замечены доном Джоаном и главным образом его подругой и дали повод ко всяким пошлым инсинуациям и ехидным замечаниям, авторство которых принадлежало, вне сомнений, злобствующему языку Миртеи.
Однажды утром дон Джоан, под влиянием все той же Миртеи, сделал вид, что опасается, как бы простые, дружеские отношения между мной и Лизеттой не наложили тень на меня и тем самым не нанесли ущерба ему самому. Он позвал меня в библиотеку и там устроил мне хорошую головомойку: говорил о моих обязательствах и о своей ответственности за мое поведение; говорил, что, поступая легкомысленно, я скомпрометировал бы и себя и его. И в конечном итоге запретил мне разговаривать с Лизеттой, предупредив, что если я его не послушаюсь, то он высадит меня на берег в Рио де Жанейро. Угроза эта была столь же опасной, сколь нелепо и обидно его безапелляционное требование. Но дон Джоан никак не представлял себе, с кем имеет дело. Я возразил ему, что крайне изумлен тем, что он позволяет себе вмешиваться в мою личную жизнь, что мне ничего не стоит высадиться в Рио де Жанейро и что это даже доставит мне удовольствие, так как я своим искусством всегда заработаю себе на жизнь, куда бы я ни попал. Затем я прибавил, что по отношению к нему я не имею других обязательств, как только выполнить свой долг артиста, когда мы будем в Сантьяго, и что я ни в коем случае не намерен из-за глупых пересудов лишать себя общества синьорины Лизетты. И на этом я покинул его, ошеломленного и сильно рассерженного. На палубе я встретил Лизетту с покрасневшими глазами. Преподавательница танцев, которой еще в Милане поручила ее мать, запретила ей разговаривать со мной. Тогда я вышел из себя и уговорил ее не поддаваться постороннему воздействию, так как мы не делаем ничего дурного и свободны поступать так или иначе. А затем, взяв ее под руку, я демонстративно прогуливался с ней по палубе около часу.
На другой день в салоне было вывешено за подписью директора сцены следующее объявление «Завтра в десять тридцать репетиция «Африканки» при участии всех артистов». Я тотчас поспешил распеться при помощи кое-каких вокализов. Должен сказать, что я разнервничался из-за всего происшедшего и мне очень хотелось, чтобы вся труппа услышала мой голос в наилучшем состоянии. Было абсолютно необходимо показаться в самом выгодном свете, главным образом перед доном Джоаном, с которым я говорил как взрослый мужчина, а не как глупый мальчишка. Когда пришло время репетировать, я — в роли Нелюско — стал петь полным голосом самые значительные места своей партии. Голос мой бил мощным ключом во всю свою ширь. Все слушали меня, глубоко захваченные. В восторг пришла и Миртеа, которая в качестве дамы сердца дона Джоана казалась директрисой труппы.