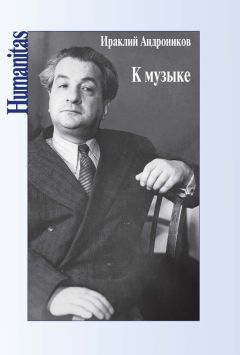На другой день в салоне было вывешено за подписью директора сцены следующее объявление «Завтра в десять тридцать репетиция «Африканки» при участии всех артистов». Я тотчас поспешил распеться при помощи кое-каких вокализов. Должен сказать, что я разнервничался из-за всего происшедшего и мне очень хотелось, чтобы вся труппа услышала мой голос в наилучшем состоянии. Было абсолютно необходимо показаться в самом выгодном свете, главным образом перед доном Джоаном, с которым я говорил как взрослый мужчина, а не как глупый мальчишка. Когда пришло время репетировать, я — в роли Нелюско — стал петь полным голосом самые значительные места своей партии. Голос мой бил мощным ключом во всю свою ширь. Все слушали меня, глубоко захваченные. В восторг пришла и Миртеа, которая в качестве дамы сердца дона Джоана казалась директрисой труппы.
Но из всех тех, кто меня слушал, больше всего мне хотелось заслужить похвалу той «темноволосой синьоры», которая два года назад пела в Милане и обворожила публику своей красотой и своим искусством. Она — впредь, говоря о ней, буду называть ее Бенедеттой вызвала во мне с первого взгляда самую горячую симпатию в сочетании с самым возвышенным, почти священным преклонением. Я ревниво, как тайну, хранил в себе это сложное чувство, пробудившееся во мне с того момента, как я был ей представлен, и боялся признаться в нем даже самому себе. Я ощущал ее настолько совершенной, до такой степени далекой и недосягаемой, что надежда завоевать ее сердце или хотя бы ее внимание, казалась мне нелепой фантазией; к тому же мне едва исполнилось двадцать три, а ей было тридцать. Решительно все проявляли по отношению к ней восторженное внимание. За столом она сидела по правую руку от капитана, который также не мог удержаться, чтобы за ней не ухаживать, но как англичанин проявлял свое внимание весьма чопорно. Вульман, считавшийся красавцем-мужчиной и неотразимым победителем, влюбился в нее сразу до безумия и ухаживал за ней открыто, почти дерзко. Вспоминаю, что, спустившись в каюту, он иногда высказывал свою досаду: «Все-таки я своего добьюсь, — восклицал он, — когда будем в Чили, все пойдет по-другому. Здесь, на пароходе, она вечно окружена и ни минуты не удается остаться с ней вдвоем». Когда я слышал это пошлое хвастовство, вся кровь бросалась мне в голову, и я с трудом боролся с соблазном высказать ему мое презрение.
Когда кончилась репетиция — то, что я пел полным голосом, было с моей стороны весьма разумно, — я понял, что сразу же намного вырос в глазах всех моих коллег. Среди них и Бенедетта подошла ко мне, чтобы пожать руку и поздравить. И в ответ на ее слова я сказал ей: «Благодарю вас, синьора, ваша похвала мне особенно дорога». И хотя я произнес эти слова с особым выражением, выдающим мое внутреннее волнение, она не придала им, по-видимому, никакого значения. О том, какую власть приобрела надо мной эта женщина, может свидетельствовать следующий случай. Однажды утром на палубе я играл в камешки с двумя пассажирами, и мы старались перещеголять друг друга, закидывая плоский камешек как можно дальше. На палубе в это время никого не было. Только вдали, в кормовой части сидели в стороне «темноволосая синьора» с приятельницей. И вдруг, по несчастной случайности, камешек, с силой брошенный мной, долетел до сидевших на палубе дам и, ударив по ноге приятельницу, сильно ушиб ее. Я тотчас поспешил выразить ей свое сожаление и принести самые искренние извинения, но синьора рассердилась за подругу: «Это не место для подобных развлечений, — строго сказала она и тут же прибавила, — что вы за ребенок! Что будет с вашим чудесным голосом? Отдаете ли вы себе отчет в той ответственности, которая ожидает вас? Вы узнаете это по приезде на место. И что за впечатление вы произведете сразу же с этими длинными волосами и вечным галстуком, завязанным бантом! Вы подумали об этом?»
Камешек выпал у меня из рук. Со стыдом восприняв замечания синьоры, хотя и не имевшие прямого отношения к данному случаю, но совершенно справедливые, я спустился в каюту и остановился перед зеркалом. Смотрел я на себя теперь другими глазами. Нашел, что выгляжу смехотворно со своей длинной шевелюрой и нелепым галстуком. И тогда, не теряя ни минуты, помчался к парикмахеру, чтобы он остриг меня так, как были острижены все взрослые мужчины, и сразу же переменил галстук бантом на длинный, купленный мной в Милане. После этого я вернулся на палубу — обе дамы все еще сидели на прежнем месте — и, обратившись к Бенедетте, спросил: «Посмотрите, так лучше?» Она, конечно, никак не воображавшая, какое значение имело для меня ее замечание, удивилась при виде моей мгновенной метаморфозы и воскликнула очень довольная: «Да конечно, вы теперь выглядите как джентльмен, и когда вас увидят впервые в Сантьяго, отнесутся к вам с большим уважением». Все другие артисты также нашли, что я выгляжу гораздо лучше. Сам дон Джоан, хотя мы с ним больше не разговаривали, приписывая, быть может, мое превращение его замечанию при нашей первой встрече в Милане, поглядывал на меня несколько более благосклонно. С этого дня я больше не мог ни шутить, ни забавляться. Я становился другим человеком.
Жизнь на борту шла своим чередом и проходила в самом тягостном однообразии. Вульман в своей обычной покровительственной манере без устали твердил мне: «Когда будем в Сантьяго, я представлю тебя моим друзьям-журналистам и позабочусь обо всем. Будь спокоен. Увидишь, они создадут тебе. настоящий успех». Тенор Кастеллано, хотя и признавал исключительные достоинства моего голоса, но, любуясь бриллиантом, украшавшим его мизинец, постоянно повторял полушутя, полусерьезно: «Удостоишься чести петь с Эдоардо Кастеллано». Тенор Исквиердо, бывший на самом деле выдающимся Васко ди Гама, в свою очередь считал нужным сообщить мне: «Услышишь мою «Африканку». Жаль, что мы не смогли поставить ее с Кавалларо в Сицилии. Последний раз, когда я пел в Испании, я был вынужден бисировать романс „Уж не во сне ли вижу край волшебный"». Таковы были обычные разговоры, заполнявшие нашу жизнь на борту «Лорелланы»...
Самой нудной и утомительной частью моего первого продолжительного плавания оказался рейс между Монтевидео и Вальпараисо. В проливе Магеллана мы попали в страшную бурю и пережили опять мучительные дни. Лучше не вспоминать о них. Когда мы прибыли в Вальпараисо после сорока дней пути, то, сойдя с парохода в этом состоянии отупения, которое естественно при выходе на берег после столь длительного и трудного путешествия, в суматохе таможенного осмотра, среди журналистов, фотографов и множества чужих людей, я был охвачен чувством глубокой печали. Мне казалось безумием то, что я решился уехать в такую даль, в противную страну с противным климатом, с тяжелым, сырым воздухом, давившим на голову и делавшим меня больным.