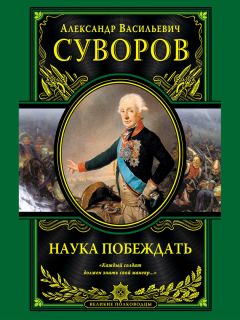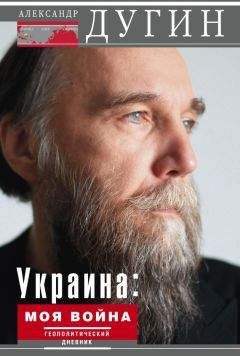Пусть некоторые считали, что аплодируют Семеновой, – Катенин, несомненно, аплодисменты относил к своему переводу.
А неподалеку в креслах сидел Шаховской – могущественнейший человек; недавно в бенефис госпожи Вальберховой ставили несколько пьес: «Граф Ори, или Возвращение из крестовых походов» – перевод с французского Шаховского, комедию в стихах «Какаду, или Следствие урока кокеткам» – самого Шаховского, водевиль в одном действии «Актер на родине, или Прерванная свадьба» – опять же Шаховского. Этот Шаховской тоже был театральным центром – и всегда окружен особенно густой толпой. И он подозвал к себе Пушкина.
– Ну что твой Руслан? Прискакал в святой Киев? Ты знаешь, как я тебя люлю, как люлю твою поэму… Приходи, приходи ко мне на чердак… люлю!..
Еще одним центром был Гнедич – скромно и тихо сидевший на месте. И говорил он тихим голосом, но лицо его светилось торжеством.
– Как она играет… – Он сжал руку Пушкина. – Как играет…
Это он обучал Семенову декламации, и ее успех был его успехом.
– Когда-нибудь скажут: Семенова образовалась сама собой… Нет, это я образовал ее!.. Или скажут: Семенова сошла со сцены… А нужно сказать: Гнедич сошел со сцены. – И так взволновался, что из единственного его глаза выкатилась слеза…
Но Пушкин был уже далеко. Он поспешил в ложу, где сидела рядом с матерью Сашенька Колосова…
И кажется, весь свой гений он употребил на то, чтобы говорить, говорить, говорить – потоком красноречия захлестнуть, закружить, увлечь молодую девушку, сиявшую красотой и гордою своими первыми сценическими успехами. О, он восхищался ею в трагедии
Озерова «Эдип в Афинах»! О, он делил общее восхищение ее дебютом в «Фингале»! Ее называют новой звездой, о ней идут громкие толки…
– Но почему вы засмеялись? – прервал себя Пушкин.
– Этого я не могу вам сказать.
– А если я догадываюсь? – Он пристально смотрел ей в глаза.
– Это невозможно.
– Пожалуйста, скажите мне, я уверен, что догадался!..
– Да полно вам, – сказала Евгения Ивановна, которая была вовсе не в восторге от неспокойного поведения молодого человека в их ложе. На них оглядывались.
– Если вы догадались, значит, вы знаете, что мне невозможно вам сейчас сказать.
– Когда же вы скажете?
– Со временем, может быть…
– Но кого это касается?.. Меня это касается?
– Да полно вам, – уже с досадой сказала Евгения Ивановна.
А он совсем разошелся: стянул с головы парик – после тяжелой болезни этой осенью он опять был коротко острижен – и принялся им обмахиваться.
– Да полно вам! – уже не зная, что предпринять, сказала Евгения Ивановна.
Вокруг смеялись.
Потом он вернулся в партер. В кружке умных – Никита Муравьев, Жано Пущин, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – рассуждали о Расине: создавая образ Эсфири, он желал влиять на добрые начала Людовика XIV… И следовала такая мысль: нужно влиять на Александра.
– Но госпожа Ментенон, игравшая Эсфирь, была любовницей Людовика XIV, – сказал Пушкин. – Увы, наш Александр в театр не ходит…
Серьезный разговор продолжался, но он отвлекся. В соседнем кружке молодые офицеры обсуждали женские достоинства недавних выпускниц школы. И он принял деятельное участие в решении вопроса: кто из девушек jarretees, с сжатыми ногами, и у кого arquees, колени раскрыты… Конечно, политика – вещь важная, но есть и другие, не менее важные вещи…
Но что это? Чей-то упорный взгляд заставил его оглянуться… Широко раскрытые, смущенные, преданные, любящие глаза смотрели на него. Между дамой со страусовым током на голове и худощавым господином с бакенбардами на английский манер сидела Таланья! Он издали поклонился ей. Роман их продолжался. Скромный домик на северной окраине Васильевского острова служил им убежищем…
Снова взвился занавес. С подмостков в разверстый зал, в раскрытые сердца и души полилась расплавленная лава слов – и началось ни с чем не сравнимое наслаждение.
Сцена изображала пышные чертоги Артаксеркса. Приземистые колонны, могучие своды, широкие террасы, яркие ткани, причудливые украшения подчеркивали тяжелую восточную роскошь…
Итак, лживый Аман неистовой клеветой подвигнул персидского царя Артаксеркса на полное истребление чад Израилевых. Но, нарушив суровый, грозивший смертью запрет, без спроса вступила в покои царя Эсфирь.
Как Семенова появилась! Как она вошла! Одну руку она отвела назад, будто искала и не находила в воздухе опоры, а другую – простерла перед собой, защищаясь от страшного и неминуемого удара. Служанки поддерживали тогу. Голову венчала корона. Неровными толчками продвигалась она вперед – как царица, но и как рабыня.
Кто вступить сюда непризванный дерзает? Кто, смерти возжелав, закон мой нарушает?
Да, кара была неминуема! Голос гневного Артаксеркса, яростный взгляд его повергли всех в ужас. Смятение на лицах служанок… и Эсфирь пала без чувств.
Зал замер. Все затаили дыхание. В этой тишине нестерпимым казался малейший лишний звук…
О, боги мощные! Что зрю! Ее ланиты
Какою смертною вдруг бледностью покрыты… —
вскричал Артаксеркс.
И все – и в близких креслах, и в ложах, и в далеком райке – увидели бледность ланит Семеновой. А ведь она неподвижно лежала!..
Но вот, придя в себя, она нашла силы говорить.
Царь!..
В классически законченной позе повернула Семенова классически прекрасную свою голову.
Царь!..
И, поддерживаемая руками прислужниц, привстала…
…никогда я зреть без страха не могла
Величья твоего священного чела.
Неприметным жестом сдернула царица с плеч черную шаль – и предстала вся в белом, в длинной, белой тоге, ниспадающей мягкими складками к ногам, – величественная, стройная, прекрасная…
В ее устах тяжелые строки Катенина прозвучали легко. Ее декламация была напевной, как было принято, она то понижала, то повышала голос, сильно растягивая окончания строк и подчеркивая рифмы.
…С такою благостью к рабе своей взирает
И сердце ей во власть с любовию вручав т…
И настал решительный момент. Она подалась вперед, классически стройная ее нога напряглась под тонкой тканью – как на античных статуях под мраморными складками одежд, – а голос зазвучал всеми переходами от пронзительного шепота до громоподобных восклицаний.
Я важную мольбу должна тебе принесть…
В какое мгновение это произошло? В какое мгновение молчание на сцене сделалось молчанием всего зала?..
От ней, о государь, жду щаcтья иль мученья.
И зал почувствовал громадность ее решения. Нет, недаром о ней говорили: она откровением души отгадала тайну драматического искусства!