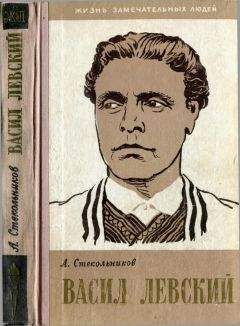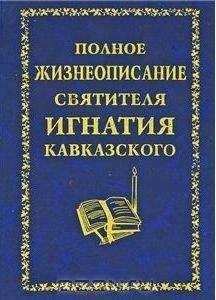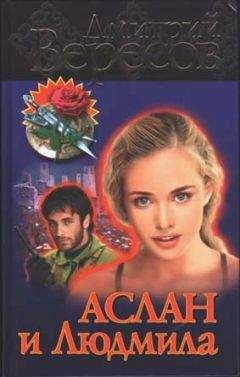— Ночевать пойдешь в дом сестры моей Велички, там все готово, — сказал Марин Левскому, когда закончилось собрание.
Ночью улицы Ловеча не освещались. Лишь кое-где на перекрестках тускло горели керосиновые фонари. Запоздалые путники пробирались с фонарями в руках, и тогда казалось, что по улицам медленно снуют большие светлячки.
Дом Велички стоял неподалеку от дома отца ее, в узенькой улочке. Марин, провожавший друга, постучал тяжелым железным кольцом, висевшим на двери калитки. Из дома вышел муж Велички Гечо Хашнов, впустил во двор гостей и вновь наглухо замкнул калитку.
В большой комнате ждал ужин: хлеб, сыр, кислое молоко. Разговаривали недолго. Прибрав со стола, хозяйка объявила: пора спать.
— Спать ты будешь здесь, а в случае чего... Пойдем, сестра покажет. Мы с ней все обдумали.
Величка повела в комнату, где она обычно работала.
— Видишь? — спросила она Левского.
— Вижу! Ткацкий стан, как и у всех болгарок.
Величка засмеялась:
— А ты посмотри, что под станом.
— Под станом, как и полагается, пол.
— А под полом — комната. Эх ты, недогадливый!..
Довольная произведенным впечатлением, Величка объяснила:
— Там вот, внизу, маленькая комнатушка. Когда понадобится, ты спустишься туда, а я сяду за стан и буду как ни в чем не бывало ткать.
— И все? — перебил ее Левский.
— А ты не спеши. Тут не одна голова думала. Видишь колокольчик? От него идет веревка до калитки. Каждый, кто возьмется за щеколду, чтобы во двор дверь открыть, незаметно для себя сигнал в дом подаст. А я мигом за стан усядусь. Отсюда весь двор как на ладони. Если будет большая опасность, я тебе сигнал подам. Видишь, от стана веревка в пол продета, будто ею стан привязан, а ты смотри — я ногой вот так веревку дерну, а у тебя сигнал раздастся: уходи, мол, Васил! Из твоей комнаты есть выход на задний двор, через него по соседним дворам уйдешь куда захочешь.
Удивила и порадовала Левского находчивость друзей. Тут же порешили, что дом Велички Хашновой отныне станет комитетским убежищем.
Из Ловеча Левский поехал в Тырново, посмотреть, что делается ныне в древней столице царства Болгарского.
Сюда, после неудачи в Русе, перебрался Христо Иванов, с той же целью — организовать местные революционные силы.
Пробыл Левский в Тырнове дня четыре. За это время, как отмечает в своих записках Хр. Иванов, они обсудили болгарские дела, собирали молодежь. Левский тогда поделился своими мыслями о необходимости создать устав революционной организации, говорил, что для успеха дела крайне нужен единый порядок, жесткий закон, который бы определял права и обязанности как комитетов, так и отдельных деятелей.
Так, кирпич за кирпичом, кладет Левский фундамент новой революционной организации в Болгарии.
Позже он сам займется разработкой проекта устава, а сейчас на очереди другие важные дела. Создание комитетов только началось, надо спешить, надо самому ходить по городам и селам, искать нужных людей, будить народ на борьбу.
Одно из собраний тырновской молодежи решили провести под видом загородной прогулки в Преображенский монастырь. Дорога туда идет по Тырновскому ущелью. Много поработала Янтра, пока прорезала себе это глубокое ложе. От русла реки поднимаются пологие лесистые склоны, а над ними вздымаются отвесные скалы, причудливо изрезанные водой и ветрами, завитые вечнозеленым плющом.
На западном склоне, под высокой скалистой стеной, в липовой роще укрылся Преображенский монастырь. Издали приметны лишь его красные черепичные кровли. Почти напротив, на восточном склоне — другой монастырь, святой Троицы. Основатели их, видимо, понимали толк в красоте.
Нечаянная радость ждала здесь Левского. Не успел он оглядеться, как попал в объятия товарища еще по службе в легионе Раковского в 1862 году, Матея Преображенского.
Восемь лет, что минули с той поры, мало сказались на этом жизнелюбце. Перед Левским стоял все тот же высокий, крепкий, голубоглазый человек с темно-каштановой бородкой. На лице его, широком и открытом, так и горели умные, с хитрецой глаза.
— Вот и встретились, Васил. Расскажи, где был, что делал?
— Ну, а ты, ты-то как, Матей?..
И уже готовы были друзья окунуться в прошлое, да вспомнил Левский, зачем он сюда пришел.
Два дня прожили молодые тырновцы в монастыре. Уединясь где-нибудь среди скал, а то в прохладе тенистых рощиц, слушали они, как боролись за свободу родины их отцы и деды, какие заветы оставили они сынам и внукам своим. А потом, в тиши монастырских келий, приютивших их, каждый мысленно пытался отыскать свое место в великом деле.
Интересных людей рождала эпоха, насыщенная высокими идеалами служения родине и народу. Безвестных людей она поднимала на подвиги, отдавала их на усыновление истории. Так поступила она и с маленьким Моно из рода Сеизменовых, рода, никакими громкими деяниями не отмеченного, нигде дальше своего села неизвестного. Жили основатели этого крестьянского рода вместе с другими своими соотечественниками в селе у большой дороги от Дуная к турецкой столице. Их трудами село разбогатело и стало приманкой для любителей чужого добра, каких много было в тогдашней Турецкой империи. Пришлось бросить насиженное гнездо и уйти подальше, в горы, где легче защитить честь и достояние свое. Место для жилья выбрали дикое, лесное и назвали его Ново село. Здесь и родился Моно, но никто точной даты этого события не отметил, может быть, в 1825, а может, и в 1827 году.
В чумной год родители умерли, и пошел Моно по чужим людям. Горьким показался хлеб, приправленный попреками. Кто-то надоумил податься в монастырь, где для каждого есть приют. Первые надежды не были обмануты. В Преображенском монастыре бездомный Моно получил кров и хлеб. Там в его душе зародилась страсть к познанию мира, страсть, которой суждено было сопровождать его во всей жизни.
Эта страсть увела молодого послушника из маленького Преображенского монастыря в известный центр духовной болгарской культуры — Рилский монастырь. Укрытый в дебрях Рилы, он как маяк светил во мгле рабства и не давал гаснуть в сердцах рабов огню национального самосознания.
Монашеская ряса и богатство — вот два средства, которые в те времена открывали болгарам доступ к просвещению. Моно не из чего было выбирать. Он стал монахом под именем Матей. Так крестьянский сын из рода Сеизменовых стал отцом Матеем Преображенским [47].
Монашеская ряса — это в то же время и своеобразный путевой лист на беспрепятственное хождение по опасным дорогам Турецкой империи. Для любознательного Матея это было как нельзя кстати. Вскоре после принятия монашества отправился он пешком на Афон — гористый греческий полуостров, средоточие множества православных монастырей.