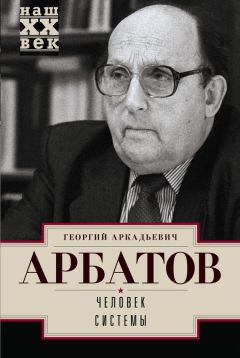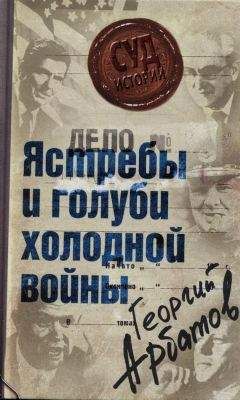Первый аргумент сводился к тому, что выступление вызовет серьезные осложнения в ряде социалистических стран (я работал в отделе, который занимался ими, и начать с этого было естественным). В двух из этих стран, решил я напомнить Брежневу, лидерами стали люди, в свое время посаженные Сталиным в тюрьму и чудом оставшиеся в живых, – Кадар в Венгрии и Гомулка в Польше. В третьей – Болгарии – сразу после XX съезда прежний руководитель был снят пленумом ЦК за злоупотребления властью. Что же, там снова менять лидеров? Ведь этого местные сталинисты непременно захотят. Неужто Брежневу сейчас, в этот и без того непростой момент, нужны такие осложнения?
Второй аргумент – реакция компартий Запада. Они с трудом, а кое-где с немалыми издержками переварили XX съезд. Что ж им теперь делать: встать в оппозицию к нам либо заново совершать «поворот кругом», подтверждая обвинение в том, что своей позиции они не имеют и рабски следуют всем поворотам и кульбитам политики Москвы?
И третий аргумент – внутренний. Я не поленился заново прочесть стенограмму XXII съезда и выписал из нее самые яркие высказывания против Сталина деятелей, еще состоявших при Брежневе в числе членов и кандидатов в члены политбюро, секретарей ЦК (в том числе Шелепина, Суслова, Подгорного, Мжаванадзе и др.). Как же они, совсем недавно клеймившие Сталина, требовавшие вынести его прах из Мавзолея и поставить памятник его жертвам, после такой речи нового генсека будут выглядеть в глазах партии, широкой советской и зарубежной общественности? Как будут смотреть в глаза людям? Или товарищ Брежнев специально хочет их дискредитировать, чтобы потом с ними расстаться? И наконец, не зададут ли и ему самому вопрос: где он был раньше? Ведь товарищ Брежнев участвовал во всех съездах партии, начиная с XIX, и с того же съезда был членом ЦК КПСС.
С таким планом я пришел к Брежневу и его полностью осуществил. Единственной неожиданностью было то, что, когда мы с Цукановым зашли в кабинет, поздоровались и сели, Брежнев предложил: «А не позвать ли нам еще Андропова?» И тут же его вызвал. Так что всю «домашнюю заготовку» я выкладывал уже обоим: и Брежневу, и Андропову.
Я ощущал, что аргументы произвели впечатление. Брежнев выглядел все более озабоченным, время от времени перебивал вопросом к Андропову: что думает тот? Андропов, по-моему, выбрал очень удачную тактику. Он каждый раз с незначительными вариациями в деталях говорил примерно следующее: конечно, Георгий Аркадьевич горячится, в чем-то, может, и пережимает, преувеличивает, но в принципе такого рода издержки, наверное, неизбежны. И добавлял какие-то свои, подчас очень весомые соображения. Получалось, что Андропов вроде бы со мной несколько полемизировал, была борьба мнений, а первоначальный проект речи закапывался все глубже. Так же, как его главная идея.
В конце концов нам троим Брежнев поручил спешно написать новый вариант речи. Не скажу, что он получился глубоким по мысли, богатым идеями. Но имя Сталина там упоминалось (большего я сделать просто не мог) только один раз – в списке организаторов революционной борьбы в Грузии, притом по алфавиту (значит, ближе к концу списка). Но одновременно в речи упоминался и XX съезд. По тем временам, особенно с учетом того, что эта речь произносилась в Грузии, где тогда были очень сильны настроения в пользу реабилитации Сталина, это было подтверждением незыблемости прежнего курса в отношении всей проблемы Сталина и сталинизма.
У меня сложилось впечатление, что потом, после этого эпизода Брежнев к вопросу о реабилитации Сталина, об отмене решений XX съезда относился много осторожнее. Скорее всего, когда после октябрьского пленума начали набирать силу настроения в пользу реставрации сталинизма, он, не имея сильных личных убеждений ни за, ни против, не сразу начал задумываться о практических последствиях шагов, на которые его толкали. И толкали не только Трапезников с Голиковым, но и люди, занимавшие в партии более высокое положение.
Тогда – в 1965–1967 годах – мне казалось, что при всей противоречивости, неопределенности обстановки шансы на то, что политический курс выправится, возрастают. На чем основывался такой весьма, конечно, осторожный оптимизм?
Прежде всего, становилась все менее вероятной угроза нового «дворцового переворота» и прихода к власти Шелепина. Брежнев своевременно уловил эту угрозу (и то, что Шелепин уже сыграл большую роль в ловком проведении одного «дворцового переворота» – смещении Хрущева, делало Брежнева, по-моему, особенно настороженным). С осени 1965 года Брежнев развернул контригру. И если уж он такую игру начинал, она, как правило, доводилась до конца. Так было и с Шелепиным[18]. Что-то произошло, как говорили, осенью 1965 года – что именно, люди моего положения не знали, но всем было продемонстрировано, что А.Н. Шелепин вовсе не второй человек в партии и стране и тем более не кандидат в лидеры, а, так сказать, «рядовой» член политбюро. Вслед за тем из-под его начала вывели оргпартработу, кадры и поручили курировать торговлю, легкую и пищевую промышленность. Одновременно переводились на другую, не дававшую политического влияния работу близкие к Шелепину люди. Министр внутренних дел Тикунов был направлен на дипломатическую работу в Румынию, председатель Гостелерадио Месяцев – послом в Австралию, директор ТАСС Горюнов – в одну из африканских стран. Завершающим ударом по Шелепину стало – об этом я уже говорил – смещение в мае 1967 года Семичастного с должности председателя КГБ. Его преемником стал, как известно, Андропов, для которого, судя по его словам, это назначение было полной неожиданностью. Помню, на следующее утро после решения политбюро он заехал в ЦК и собрал нас, консультантов, чтобы попрощаться. И, смеясь, рассказал, как сразу с заседания, где решился вопрос, Суслов и Пельше повезли его для представления руководству комитета в дом на Лубянке, который он раньше старался «обходить за три квартала», как он потом остался там один и, думая о том, что в прошлом происходило в этих стенах, поеживался, чувствуя себя с непривычки довольно неуютно.
Вскоре дело было завершено – Шелепина вывели из политбюро.
Так эта угроза (как мне и многим другим тогда казалось – самая серьезная) была локализована, а потом снята, что само по себе внушало известный оптимизм.
Не удалось сталинистам добиться своего и на XXIII съезде партии. Не исчезала и надежда, что ситуацию удастся улучшить. Что очень важно, неплохо шли дела в экономике. Экономическая дискуссия, начатая еще при Хрущеве статьей в «Правде» харьковского профессора Либермана, была продолжена и привела осенью 1965 года к целой системе практических решений, получивших неофициальное название экономической реформы.