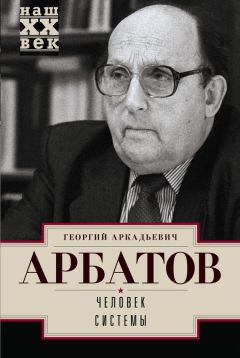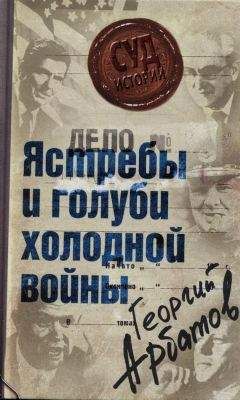Сложившейся ситуацией постарались тут же воспользоваться сталинисты. Начался год их очень большой активности. Поправели или, может быть, просто стали более откровенными консервативные представители руководства – Суслов, Подгорный, Шелест, Гришин, Демичев и др. И, конечно, в открытую атаку перешел «штурмовой отряд» консервативных идеологов из аппарата ЦК КПСС и руководства общественными науками.
О самих событиях августа 1968 года я говорить не буду – ничего добавить к уже известному не могу, только помню, что больше всего меня одолевало ощущение жгучего стыда, стыда за политику своей страны, за то, что сделало ее руководство. Как я убедился, то же самое чувство разделяли многие представители партийной интеллигенции, включая тех, кого я раньше считал вполне ортодоксальными (например, редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Я.С. Хавинсон, скончавшийся в 1989 году). Не забуду и другого. Через день-два после этого события я сгоряча, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал насчет нашей политики, Цуканову, а также В.А. Крючкову, который тоже работал в свое время а Отделе ЦК и был приглашен Андроповым на высокий пост в КГБ. Ни тот ни другой, как оказалось, меня начальству «не продали». Впрочем, я подозреваю, что Брежнев, а тем более Андропов догадывались о том, как и я, и многие другие представители интеллигенции (в том числе оставшиеся на работе в ЦК) относимся к этой акции, в глубине души даже считали это естественным.
Но дело не в личных эмоциях и переживаниях, связанных с конкретным внешнеполитическим шагом правительства. Как и предвидели многие, этот шаг оказал очень серьезное негативное воздействие на обстановку в стране, на весь ход ее политического развития. Пожалуй, воздействие даже более негативное, нежели события 1956 года в Beнгрии и Польше. Так, во всяком случае, мне казалось. Позже я пришел к выводу, что причины тогдашнего поворота вправо в нашем обществе были более серьезными, более глубокими. И что, может быть, с ним, с этим поворотом в нашем обществе, наоборот, было связано военное вмешательство в Чехословакии.
Я приводил выше высказывание Хрущева о том, что послушай А. Новотный его совета, разоблачи он своевременно преступления, которые совершали его предшественники по указанию Сталина, – и никаких неприятностей в 1968 году не было бы. И спорил с ним: одного разоблачения прошлых ошибок и преступлений недостаточно, если за ними не последуют далекоидущие реформы. Но с точки зрения самих событий в Чехословакии Хрущев, возможно, был прав. Критика прошлого могла сыграть роль отдушины, клапана, открыв который можно было снизить политическое давление в обществе. Особенно если бы все случилось раньше, когда лидером в СССР еще был Хрущев и перемены в Чехословакии происходили на волне XX или XXII съездов КПСС.
Но не совсем по той или, во всяком случае, не по одной той причине, которую имел в виду Хрущев – что само разоблачение сняло бы проблемы. Важнее, мне кажется, то, что события совсем иначе воспринимались бы в Москве – с пониманием, может быть, даже сочувствием и уж отнюдь не как вызов, тем более не как возбудитель нежелательных внутренних проблем. Политические циклы в обеих странах более или менее совпали бы, и дело вполне могло бы обойтись без силовой конфронтации.
Но так не произошло. К началу 1968 года в Москве уже в какой-то мере начался отход от линии XX съезда. И существовали, действовали политические силы, которые хотели полного от нее отказа. Естественно, что перемены в Чехословакии ими, а под их влиянием – и довольно многими в Советском Союзе воспринимались с самого начала с подозрением и растущим недоверием.
Негативное, даже враждебное отношение нашего руководства к событиям в Чехословакии сформировалось, как представляется, не в июле и не в августе, даже не в мае, а скорее всего уже в январе 1968 года. Враждебность в силу сугубо внутренних причин, нежелания идти путем перемен вызывал сам курс реформ, на который вставала Чехословакия. Эта недоброжелательность наверняка была замечена в Праге. И, по-моему, серьезно радикализировала изначально, как мне кажется, умеренно-реформистское руководство партии и страны, толкала его к тем, кого потом назвали ревизионистами и контрреволюционерами. А это, в свою очередь, вызывало нарастающую подозрительность и недоверие в СССР и других странах Варшавского договора. Так по спирали, видимо, и раскручивалось развитие событий вплоть до драматической развязки.
Дело усугублялось еще одним обстоятельством, которое я прекрасно понимал, проработав более трех лет в Отделе ЦК. Это, так сказать, человеческий, личностный фактор в работе аппарата, роль людей, непосредственно занимавшихся в ЦК КПСС (как, впрочем, и в МИД СССР, и в других ведомствах) отношениями с теми или иными конкретными социалистическими странами. Они, эти люди, были разными. Но в это время еще сохранялся определенный их тип, сформировавшийся в сталинские времена, когда инструктор (или референт) ЦК КПСС, занимавшийся соответствующей страной, не только ощущал себя в ней «государевым наместником», но и нес в себе заряд неколебимой убежденности, что в политике ему как партийному работнику (или дипломату и т. д.) из Москвы ведома истина в последней инстанции. И те, кто против его мнения возражает, – враги или как минимум ревизионисты.
Ю.В. Андропов понимал – и не раз об этом говорил, – что такие настроения, такой склад мысли работников политически вредны, даже опасны, затрудняют развитие нормальных отношений с союзными странами. Но почти никого из этих людей он, увы, не сменил. Так что в 1967 году многие из работников отдела, занимавшиеся нашими отношениями с союзными государствами, мыслили теми же категориями, что и до 1953 года. А кроме того, среди партийных кадров соответствующей страны у них были, с одной стороны, друзья, те, кому они верили, а с другой – враги, те, кого они не любили. И страну они постепенно начинали воспринимать глазами своих друзей, доверенных лиц, любимчиков, из которых там складывалось нечто вроде «московской фракции».
Но поскольку у нас эти работники слыли «специалистами» по данной стране, по долгу службы докладывали о положении дел в ней руководству, им все же верили, их слушали. Это и обеспечивало как раз в критические моменты заметную, иногда крайнюю необъективность в информации и оценках.
По Чехословакии к 1967 году главными среди таких «специалистов» были заведующий соответствующим сектором Отдела ЦК С.И. Колесников и советник-посланник в нашем посольстве в Праге И.И. Удальцов (раньше он тоже работал в Отделе ЦК: человек, кстати, в отличие от Колесникова умный, даже образованный, но в то же время убежденный сторонник старых догм). Мне трудно оценить, какую они сыграли конкретно роль, но, думаю, она была немалой. Неверное, часто паническое впечатление руководства о событиях в Чехословакии способствовало быстрой эскалации напряженности в отношениях.